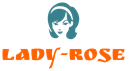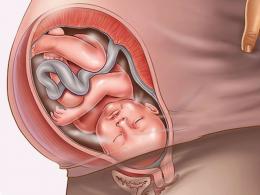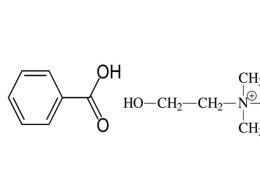Лев толстой о религии и атеизме. Лев толстой и религия
ПРЕДИСЛОВИЕ КОНЧЕЕВА К СТАТЬЕ Л. ТОЛСТОГО
«ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ И В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ЕЕ?»
Лев Николаевич Толстой был уверен, что достаточно всем людям понять, что Бог не требует от них ничего иного как быть добрыми и относиться друг к другу по доброму, любовно, как это начнет осуществляться и непременно осуществится, а, значит, приведет к максимально возможному процветанию людей на земле. Толстой, как известно, был великолепным психологом, знатоком души человеческой и потому убеждение это, вполне возможно, не было такой уж наивностью или следствием старческого маразма великого человека. Толстой никогда не был ни наивен, ни умственно неполноценен. И это убеждение его совсем не так нелепо, как могло бы показаться. Во всяком случае, предлагаемая статья вполне убедительно показывает всеобщую моральную развращенность, обличаемого Толстым общества, на фоне метафизической несостоятельности господствующих в обществе доктрин. Перед первой мировой войной Россия находилась в каком-то сложном духовном поиске и кризисе (похоже на то, что он не закончился и теперь). Но выбор ею был сделан в пользу ложной и гнусной «справедливости» марксизма, а не религиозного духовного самоусовершенствования. Я, правда, уверен, что в конечном итоге, последнее, начни оно осуществляться, кончилось бы все равно какой-нибудь мерзостью. Теоретически Толстой прав. Но практически давно известно, куда ведут благие пожелания. История показала, что именно убежденность простого русского народа в возможности устройства справедливого (доброго, правильного) общества помогла большевикам добиться безусловной поддержки их лозунгов и политики в момент захвата ими власти в стране. Да и в дальнейшем коммунисты никогда не уставали внушать народу всеми возможными способами, что власть их, и всё совершаемое ими, есть осуществление добра и справедливости наиболее успешное из всех возможных на существующем уровне развития общества и при сложившихся обстоятельствах. Короче, был бы дурак, а лапша ему на уши всегда найдется. В отличие от коммунистов, Толстой считал, что на крови, несправедливости и чужих бедах в рай не въедешь. Кстати, никаким «зеркалом русской революции» Л. Толстой никогда не был, и почему этот картавый гад так его обозвал, я не понимаю. Скорее уж самого Ленина и остальную большевистскую сволочь можно назвать обезьянами Толстого по аналогии с тем, как Дьявола называют обезьяной Бога. Я подозреваю, что косвенно толстовство, с его жесткой критикой государства и социальной несправедливости, сыграло, в конечном итоге, на руку большевикам. Народ-то не знал и не разбирался кто есть кто. И, ясное дело, всегда найдутся подонки, готовые воспользоваться авторитетом и духовным подвигом праведника. Толстой видел, в каком несправедливом, темном и злом мире он живет. И он верил, что большинство людей хочет жить ни привольно, ни праздно, ни в войнах и нищете, а хочет жить по-божьи, т. е. в правде и добре. Может так оно и есть, но мир в то время сошел с ума и вообразил, что можно добиться решения проблем социальной несправедливости, при помощи технического приема поголовного уничтожения «эксплуататоров» (как будто в душе не каждый человек «эксплуататор»). То, что это проповедовали социалисты всех мастей, это пол беды. Печально, что им удалось эти свои бредни донести до тупых, темных и алчных народных масс. Результат мы знаем. Внешне проповедь Толстого имела ту же направленность. Он тоже хотел социальной справедливости. Только путь у него к ней был не через насилие, войны и революции, а через любовь к богу и ближнему. Действительно, если бы в этом худшем из миров была возможна социальная справедливость, то путь к ней мог бы быть только таков. Технические приемы, обессмысливающие само понятие о справедливости, делающие, собственно, социум и незаслуживющим другой справедливости, кроме петли на шею или пули в лоб, здесь не годятся. В статье «Что такое религия и в чем сущность ее?» Толстой утверждает, совершенно справедливо, и показывает, что религиозные убеждения современных ему людей, всех, практически, и правящих, и простого народа, извращены настолько, что можно считать, что их и вообще нет. А значит можно ждать от людей каких угодно зверств, жестокостей и несправедливостей. Все это после революции (октябрьской) в высшей степени подтвердилось. Бунин в воспоминаниях «Гегель, фрак, метель» цитирует письмо родственника. «Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталья Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя, и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы»». Религиозного просвещения русского народа (да, и всех народов), а потому и соответствующего улучшения нравов, на которое уповал, и за которое боролся Лев Толстой не произошло. Я не верю в возможность построение Царства Божия на земле, но некоторое улучшение нравов на некоторое время в результате деятельности какой-нибудь выдающейся личности вполне допускаю. Толстой - религиозный и социальный реформатор. В области религиозной его реформа можно считать, что удалась. Удалась в том смысле, что он создал стройное и непротиворечивое метафизическое учение, вобравшее в себя все лучшее и недогматическое из мировых религий и философий. Разумеется, вся его деятельность оболгана, извращена и в настоящее время мало кому известна. Социальная же реформа, предлагавшаяся Толстым, вполне утопична. Собственно, строго говоря, Толстой не предлагал никакой реформы. Те принципиальные религиозные положения, которые он считал изначально присущими человеку должны были сами собой привести к изменению социального устройства, при осознании их всеми людьми, с несправедливого, жестокого и насильственного на справедливое, доброе и единственно оправданное как с человеческой, так и с божеской точки зрения.
А. С. Кончеев.
Л. Н. ТОЛСТОЙ
ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ И В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ЕЕ? (1901-1902)
Всегда во всех человеческих обществах, в известные периоды их жизни, наступало время, когда религия сначала отклонялась от своего основного значения, потом, все более и более отклоняясь, теряла свое основное значение и, наконец, замирала в раз установленных формах, и тогда действие ее на жизнь людей становилось всё меньше и меньше. В такие периоды образованное меньшинство, не веря в существующее религиозное учение, делает только вид, что верит в него, находя это нужным для удержания народных масс в установленном строе жизни; народные же массы, хотя и держатся по инерции раз установленных форм религии, в жизни своей не руководятся уже требованиями религии, а только народными обычаями и государственными законами. Так это было много раз в различных человеческих обществах. Но никогда не было того, что происходит теперь в нашем христианском обществе. Никогда не было того, чтобы богатое, властвующее и более образованное меньшинство, имеющее наибольшее влияние на массы, не только не верило в существующую религию, но было бы уверено в том, что в наше время религии уже никакой не нужно и внушало бы людям, сомневающимся в истинности исповедуемой религии, не какое-либо более разумное и ясное религиозное учение, чем то, которое существует, а то, что религия вообще отжила свое время и стала теперь не только бесполезным, но и вредным органом жизни обществ, вроде того, как слепая кишка в организме человека. Религия изучается этого рода людьми не как нечто известное нам по внутреннему опыту, а как внешнее явление, как бы болезнь, которою бывают одержимы некоторые люди и которую мы можем исследовать только по внешним симптомам. Религия, по мнению одних из этих людей, произошла от одухотворения всех явлений природы (анимизм), по мнению других, - из представления о возможности отношений с умершими предками, по мнению третьих, - из страха перед силами природы. А так как, рассуждают далее ученые люди нашего времени, наука доказала, что деревья и камни не могут быть одушевлены, и умершие предки уже не чувствуют того, что делают живые, и явления природы объясняемы естественными причинами, то и уничтожилась необходимость и в религии, и во всех тех стеснениях, которые, вследствие религиозных верований, налагали на себя люди. По мнению ученых был период невежественный - религиозный. Этот период уже давно пережит человечеством, остались редкие, атавистические признаки его. Потом был период метафизический, и этот пережит. Теперь же мы, просвещенные люди, живем в периоде научном, в периоде позитивной науки, которая заменяет религию и ведет человечество на такую высокую степень развития, до которой оно никогда не могло бы достигнуть, подчиняясь суеверным религиозным учениям. В начале нынешнего 1901 года французский знаменитый ученый Berthelot произнес речь («Revue de Paris», janvier 1901.), в которой он сообщил своим слушателям мысль о том, что время религии прошло, и что религия теперь должна быть заменена наукой. Я цитирую эту речь потому, что она первая попалась мне под руку и произнесена в столице образованного мира всеми признанным ученым, но та же мысль выражается беспрестанно и везде, начиная от философских трактатов до газетных фельетонов. Г-н Вертело говорит в этой речи, что были прежде два начала, двигавшие человечество: сила и религия. Теперь же двигатели эти стали излишни, потому что на место их стала наука . Под наукой же г-н Вертело, очевидно, разумеет, как и все люди, верующие в науку, такую науку, которая обнимает всю область человеческих знаний, гармонически связанных и, по степени их важности, распределенных между собою, и обладает такими методами, что все добытые ею данные составляют несомненную истину. Но так как такой науки в действительности не существует, а то, что называется наукой, составляет сбор случайных, ничем не связанных между собою знаний, часто совсем ненужных и не только не представляющих несомненной истины, но сплошь да рядом самые грубые заблуждения, нынче выставляемые как истины, а завтра опровергаемые, - то очевидно, что не существует того самого предмета, который должен, по мнению г-на Вертело, заменить и религию. А потому и утверждение г-на Вертело и людей, согласных с ним, о том, что наука заменит религию, совершенно произвольно и основано на ничем не оправдываемой вере в непогрешимую науку, совершенно подобную вере в непогрешимую церковь. А между тем люди, называющиеся и считающиеся учеными, совершенно уверены в том, что уже существует такая наука, которая должна и может заменить религию и даже теперь упразднила ее. «Религия отжила, верить во что-нибудь, кроме науки, есть невежество. Наука устроит всё, что надо, и руководствоваться в жизни надо только одной наукой», думают и говорят как сами ученые, так и те люди толпы, которые, хотя и очень далеки от науки, верят ученым и вместе с ними утверждают, что религия есть пережитое суеверие и в жизни нужно руководиться только наукой, т. е. собственно ничем, потому что наука по самой цели своей - исследования всего существующего - не может дать никакого руководства в жизни людей.
Ученые люди нашего времени решили, что религия не нужна, что наука заменит или уже заменила ее, а между тем, как прежде, так и теперь, без религии никогда не жило и не может жить ни одно человеческое общество, ни один разумный человек (я говорю разумный человек потому, что неразумный человек, так же как и животное, может жить и без религии). А не может жить без религии разумный человек потому, что только религия дает разумному человеку необходимое ему руководство о том, что ему надо делать и что надо делать прежде и что после. Разумный человек не может жить без религии именно потому, что разум составляет свойство его природы. Всякое животное руководится в своих поступках, - кроме тех, к которым его влечет прямая потребность удовлетворения своих желаний, - соображением о ближайших последствиях своего поступка. Сообразив эти последствия посредством тех средств познавания, которыми оно владеет, животное согласует с этими последствиями свои поступки и всегда без колебаний поступает одним и тем же образом, соответственно этим соображениям. Так, например, пчела летит за медом и приносит его в улей, потому что зимой ей понадобится собранный ею корм для себя и детей, и дальше этих соображений ничего не знает и не может знать; так же поступает и птица, свивающая гнездо или перелетающая с севера на юг и обратно. Так же поступает и всякое животное, совершающее поступок, не вытекающий из прямой, сейчасной потребности, но обусловленный соображениями об ожидаемых последствиях. Но не то с человеком. Разница между человеком и животным - в том, что познавательные способности животного ограничиваются тем, что мы называем инстинктом, тогда как основная познавательная способность человека есть разум. Пчела, собирающая корм, не может иметь никаких сомнений о том, хорошо пли дурно собирать его. Но человек, собирая жатву или плоды, не может не думать о том - не уничтожает ли он на будущее время произрастания хлеба или плодов? и о том - не отнимает ли он этим собиранием пищу у ближних? Не может не думать и о том, что будет из тех детей, которых он кормит? и многое другое. Самые важные вопросы поведения в жизни не могут разумным человеком быть решены окончательно именно по обилию последствий, которых он не может не видеть. Всякий разумный человек, если не знает, то чувствует, что в самых важных вопросах жизни ему нельзя руководствоваться ни личными побуждениями чувств, ни соображениями о ближайших последствиях его деятельности, потому что последствий этих он видит слишком много различных и часто противоречивых, т. е. таких, которые так же вероятно могут быть благодетельны или зловредны как для него, так и для других людей. Есть легенда о том, как ангел, сошедши на землю в богобоязненную семью, убил ребенка, который был в колыбели, и когда его спросили: зачем он сделал это? - объяснил, что ребенок был бы величайшим злодеем и сделал бы несчастие семьи. Но не только в вопросе о том, какая жизнь человеческая полезна, бесполезна или вредна, - все самые важные вопросы жизни не могут быть решены разумным человеком по соображению с их ближайшими отношениями и последствиями. Разумный человек не может удовлетвориться теми соображениями, которые руководят поступками животных. Человек может рассматривать себя как животное среди животных, живущих сегодняшним днем, он может рассматривать себя и как члена семьи и как члена общества, народа, живущего веками, может и даже непременно должен (потому что к этому неудержимо влечет его разум) рассматривать себя как часть всего бесконечного мира, живущего бесконечное время. И потому разумный человек должен был сделать и всегда делал по отношению бесконечно малых жизненных явлений, могущих влиять на его поступки, то, что в математике называется интегрированием, т. е. установлятъ, кроме отношения к ближайшим явлениям жизни, свое отношение ко всему бесконечному по времени и пространству миру, понимая его как одно целое. И такое установление отношения человека к тому целому, которого он чувствует себя частью и из которого он выводит руководство в своих поступках, и есть то, что называлось и называется религией. И потому религия всегда была и не может перестать быть необходимостью и неустранимым условием жизни разумного человека и разумного человечества.
Так и понимали всегда религию люди, не лишенные способности высшего, т. е. религиозного сознания, отличающего человека от животного. Самое древнее и обычное определение религии, от которого и произошло самое слово: religio (religare, связывать), состоит в том, что религия есть связь человека с Богом . Les obligations de 1"homme envers Dieu voilu la religion, [Обязательства человека в отношении Бога - вот что значит религия,] - говорит Вовенарг. Такое же значение придают религии Шлейермахер и Фейербах, признавая основой религии сознание человеком своей зависимости от Бога . La religion est une affaire entre cheque homme et Dieu. (Beile.) [Религия есть личное дело между человеком и Богом. (Бейль.)] La religion est le resultat des besoins de Tame et des effets de 1"intelligence. (B. Constant.) [Религия есть результат потребности души и проявления разума. (Б. Констан.)]. Религия есть известный способ осуществления человеком своего отношения к сверхчеловеческим и таинственным силам, от которых он считает себя зависимым . (Goblet d"Alviella.) Религия есть определение человеческой жизни посредством связи человеческой души с тем таинственным духом, владычество которого над миром и над собою признается человеком и с которым он чувствует себя соединенным . (A. Reville.) Так что сущность религии всегда понималась и теперь понимается людьми, не лишенными высшего человеческого свойства, как установление человеком его отношения к бесконечному существу или существам, власть которых он чувствует над собой. И отношение это, как бы оно ни было различно для разных народов и в разные времена, всегда определяло для людей их назначение в мире, из которого естественно вытекало и руководство для их деятельности. Еврей понимал свое отношение к бесконечному так, что он член избранного Богом из всех народов народа и потому должен соблюдать перед Богом заключенное Богом с этим народом условие. Грек понимал свое отношение так, что он, будучи в зависимости от представителей бесконечности - богов, должен делать им приятное. Брамин понимал свое отношение к бесконечному Браме так, что он есть проявление этого Брамы и должен отрешением от жизни стремиться к слиянию с этим высшим существом. Буддист понимал и понимает свое отношение к бесконечному так, что он, переходя из одной формы жизни в другую, неизбежно страдает, страдания же происходят от страстей и желаний, и потому он должен стремиться к уничтожению всех страстей и желаний и переходу в нирвану. Всякая религия есть установление отношения человека к бесконечному существованию, которому он чувствует себя причастным и из которого он выводит руководство своей деятельности. И потому, если религия не устанавливает отношения человека к бесконечному, как, например, идолопоклонство или волхвование, - это уже не религия, а только вырождение ее. Если религия хотя и устанавливает отношение человека к Богу, но устанавливает его утверждениями, несогласными с разумом и современными знаниями людей, так что человек не может верить в такие утверждения, то это тоже не религия, а подобие ее. Если религия не связывает жизнь человека с бесконечным существованием, это тоже не религия. И также не религия требования веры в такие положения, из которых не вытекает определенное направление деятельности человека. И также нельзя назвать религией позитивизма Конта, который устанавливает отношение человека только к человечеству, а не к бесконечному и из этого отношения совершенно произвольно выводит свои нравственные, ни на чем не упирающиеся, хотя и очень высокие требования. Так что самый образованный контист стоит в религиозном отношении несравненно ниже самого простого человека, верующего в Бога - какого бы то ни было, но только - бесконечного. - и из этой веры выводящего свои поступки. Рассуждения же контистов о «grand etre» не составляют веры в Бога и не могут заменить ее. Истинная религия есть такое согласное с разумом и знаниями человека установленное им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками .
Ученые люди нашего времени, несмотря на то, что везде и всегда люди не жили и не живут без религии, говорят, как тот невольный мольеровский доктор, уверявший, что печень в левом боку: nous avons change tout cela [мы всё это переменили], и можно и должно жить без религии. Но религия как была, так и остается главным двигателем, сердцем жизни человеческих обществ, и без нее, как без сердца, не может быть разумной жизни. Религий было и теперь много различных, потому что выражение отношения человека к бесконечному, к Богу или богам, различно и по времени, и по степени развития различных народов, но никогда ни одно общество людей, с тех пор как люди стали разумными существами, не могло жить и потому не жило и не может жить без религии. Правда, бывали и бывают в жизни народов периоды, когда существующая религия бывала так извращена и так отставала от жизни, что уже не руководила ею. Но это наступающее в известное время для каждой религии прекращение воздействия ее на жизнь людей бывало только временное. Религии, как и всё живое, имеют свойство рождаться, развиваться, стареться, умирать, вновь возрождаться и возрождаться всегда в более совершенной, чем прежде, форме. После периода высшего развития религии всегда наступает период ее ослабления и замирания, за которым следует обыкновенно период возрождения и установления более, чем прежнее, разумного и ясного религиозного учения. Такие периоды развития, замирания и возрождения были во всех религиях: в глубокомысленной браминской религии, - в которой, как только она стала стареться и окаменевать в раз установившихся и отклонившихся от ее основного смысла грубых формах, - появились, с одной стороны, возрождение браманизма, а с другой - высокое учение буддизма, двинувшее вперед понимание человечеством своего отношения к бесконечному. Такой же упадок был в греческой и римской религии, и также вслед за дошедшим до высшей степени упадком появилось христианство. То же было и с церковным христианством, выродившимся в Византии в идолопоклонство и многобожие, когда, в противовес этого извращенного христианства, появилось, с одной стороны, павликианство, с другой - в отпор учению о троице и богородице - строгое магометанство со своим основным догматом единого Бога. То же произошло и с папским средневековым христианством, вызвавшим реформацию. Так что периоды ослабления религий в смысле воздействия их на большинство людей, составляют необходимое условие жизни и развития всех религиозных учений. Происходит это оттого, что всякое религиозное учение в своем истинном смысле, как бы грубо оно ни было, - всегда устанавливает отношение человека к бесконечному, одинаковое для всех людей. Всякая религия признает человека одинаково ничтожным перед бесконечностью, и потому всегда всякая религия включает понятие равенства всех людей перед тем, что она считает Богом, будет ли то молния, ветер, дерево, животное, герой, умерший или даже живой царь, как это было в Риме. Так что признание равенства людей есть неизбежное, основное свойство всякой религии. Но так как в действительности равенства людей между собою нигде и никогда не существовало и не существует, то как только появлялось новое религиозное учение, всегда включающее в себе и признание равенства всех людей, так тотчас те люди, для которых неравенство было выгодно, старались скрыть это основное свойство религиозного учения, извратив самое религиозное учение. Так это и делалось всегда и везде, где появлялось новое религиозное учение. И делалось это большей частью не сознательно, а только вследствие того, что люди, которым было выгодно неравенство, люди властвующие, богатые для того, чтобы, не изменяя своего положения, чувствовать себя правыми перед принятым учением, всеми средствами старались придать религиозному учению такое значение, при котором неравенство было бы возможно. Извращение же религии, такое, при котором властвующие над другими могли считать себя правыми, естественно передаваемое массам, внушало и этим массам то, что их покорность тем, которые властвуют, есть требование исповедуемой ими религии. Всякая деятельность человеческая вызывается тремя побудительными причинами: чувством, разумом и внушением, тем самым свойством, которое врачи называют гипнозом. Иногда человек действует под влиянием только чувства, стремясь достигнуть того, чего желает; иногда он действует под влиянием одного разума, указывающего ему то, что он должен делать; иногда и чаще всего человек действует потому, что он сам или другие люди внушили ему известную деятельность, и он бессознательно покоряется внушению. При нормальных условиях жизни все три двигателя участвуют в деятельности человека. Чувство влечет человека к известной деятельности, разум проверяет сообразность этой деятельности с окружающей средою, прошедшим и предполагаемым будущим, и внушение заставляет человека исполнять, не чувствуя и не думая, вызванные чувством и одобренные разумом поступки. Если бы не было чувства, человек не предпринял бы никакого дела; если бы не было разума, человек предавался бы сразу многим чувствам, противоречивым и вредным себе и другим; если бы не было способности подчиняться внушению своему и других людей, человек должен бы был не переставая испытывать то чувство, которое побудило его к известной деятельности, и постоянно напрягать свой разум на поверку целесообразности этого чувства. И потому все три двигателя эти необходимы для всякой самой простой деятельности людской. Если человек идет из одного места в другое, то происходит это потому, что чувство побудило его перейти с места на место, разум одобрил это намерение, предписал средство исполнения (в данном случае шаганье по известной дороге), и мускулы тела повинуются, и человек идет по предписанной дороге. В то же время, как он идет, и чувство, и разум его освобождаются для другой деятельности, чего бы не могло быть, если бы не было способности подчинения внушению. Так это происходит для всех деятельностей людских и так же для самой важной из них: для религиозной деятельности. Чувство вызывает потребность установления отношения человека к Богу; разум определяет это отношение; внушение побуждает человека к деятельности, вытекающей из этого отношения. Но так это происходит только тогда, когда религия не подверглась еще извращению. Но как только начинается это извращение, так всё более и более усиливается внушение и ослабляется деятельность чувства и разума. Средства же внушения всегда и везде одни и те же. Средства эти - в том, чтобы, пользуясь тем состоянием человека, когда он более всего восприимчив к внушению (детский возраст, важные события жизни - смерть, роды, браки), воздействовать на него произведениями искусства: архитектуры, ваяния, живописи, музыки, драматических представлений, и в этом состоянии восприимчивости, подобной той, которая достигается над отдельными людьми полуусыплением, внушать ему то, что желательно внушителям. Это явление можно наблюдать на всех старых вероучениях: и в возвышенном учении браманизма, выродившемся в грубое поклонение бесчисленным изображениям в различных храмах при пении и курении; и в древне-еврейской религии, проповеданной пророками и превратившейся в поклонение Богу в величественном храме при торжественных пениях и шествиях; и в возвышенном буддизме, превратившемся с его монастырями и изображениями будд, с бесчисленными торжественными обрядами в таинственный ламаизм; и в таоизме с его колдовством и заклинаниями. Всегда во всех религиозных учениях, когда они начинали извращаться, блюстители религиозных учений употребляют все усилия на то, чтобы, приведя людей в состояние ослабления деятельности разума, внушать им то, что им нужно. А нужно было внушать во всех религиях одни и те же три положения, служащие основанием всех тех извращений, которым подвергались стареющие религии. Во-первых, то, что есть особенного рода люди, которые одни могут быть посредниками между людьми и Богом или богами; во-вторых, то, что совершились и совершаются чудеса, которые доказывают и подтверждают истинность того, что говорят посредники между людьми и Богом, и, в-третьих, то, что есть известные слова, изустно повторяемые или записанные в книгах, которые выражают неизменную волю Бога и богов и потому святы и непогрешимы. А как только под влиянием гипноза приняты эти положения, так уже и всё то, что говорят посредники между Богом и людьми, принимается как святая истина, и достигается главная цель извращения религии - не только скрытие закона равенства люден, но в установление и утверждение величайшего неравенства, разделение на касты, деление на людей и гоев, на правоверных и неверных, на святых и грешных. То же самое совершалось и совершается в христианстве: было признано полное неравенство между собою людей, разделенных не только в смысле понимания учения на клир и народ, но и в смысле общественного положения на людей имеющих власть и долженствующих покоряться ей, - которое по учению Павла признается установленным самим Богом.
Неравенство людей, не только клира и мирян, но и богатых и бедных, господ и рабов, установлено христианской церковной религией в такой же определенной и резкой форме, как и в других религиях. А между тем, судя по тем данным, которые мы имеем о начальном состоянии христианства, по учению, выраженному в Евангелиях, казалось, предвидены были главные способы извращения, которые употребляются в других религиях, и ясно высказано предостережение против них. Против сословия жрецов прямо сказано, что никакой человек не может быть учителем другого (не называйтесь отцами и учителями); против приписывания священного значения книгам сказано: что важен дух, а не буква, и что люди не должны верить преданиям человеческим, и что весь закон и пророки, т. е. все книги, считавшиеся священным писанием, сводятся только к тому, чтобы поступать с ближними так же, как хочешь, чтобы поступали с тобою. Если ничего не сказано против чудес, и в самом Евангелии описаны чудеса, будто бы произведенные Иисусом, то все-таки по всему духу учения видно, что истинность учения Иисус основывал не на чудесах, а на самом учении. («Кто хочет знать, истинно ли мое учение, пусть делает, что я говорю».) Главное же, христианством провозглашено равенство людей, уже не как вывод из отношения людей к бесконечному, а как основное учение братства всех людей, так как все люди признаны сынами Бога. И потому, казалось бы, нельзя извратить христианство так, чтобы уничтожить сознание равенства людей между собою. Но ум человеческий изворотлив, и придумано было, может быть и бессознательно или полусознательно, еще совершенно новое средство (truc, как говорят французы) для того, чтобы сделать предостережения евангельские и явное провозглашение равенства всех людей недействительными. Truc этот состоит в том, что приписывается непогрешимость не только известной букве, но и известному собранию людей, называемому церковью и имеющему право передавать эту непогрешимость избираемым ими людям. Придумано было маленькое прибавление к Евангелиям, именно то, что Христос, уходя на небо, передал известным людям исключительное право не только учить людей божеской истине (он передал при этом по букве стиха Евангелия и право, которым обыкновенно не пользуются, быть неуязвимым для змей, всяких ядов, огня), но и делать людей спасенными или не спасенными и, главное, передавать это другим людям. А как только было твердо установлено понятие церкви, так уже недействительны стали все положения евангельские, препятствовавшие извращению, так как церковь была старше я разума, и писания, признаваемого священным. Разум признан был источником заблуждений, а Евангелие толковалось не так, как того требовал здравый смысл, а как того хотели те, кто составляли церковь. И потому все прежние три способа извращения религий; жречество, чудеса и непогрешимость писания были и в христианстве признаны во всей силе. Была признана законность существования посредников между Богом и людьми, потому что необходимость и законность посредников признала церковь; была признана действительность чудес, потому что о них свидетельствовала непогрешимая церковь; была признана священной Библия, потому что это признавала церковь. И христианство было извращено так же, как и все другие религии, с той только разницей, что именно потому, что христианство с особенной ясностью провозгласило свое основное положение равенства всех людей, как сынов Бога, нужно было особенно сильно извратить всё учение, чтобы скрыть его основное положение. И это самое с помощью понятия церкви и было сделано и в такой мере, в какой это не происходило ни в одном религиозном учении. И действительно, никогда ни одна религия не проповедывала таких явно несогласных с разумом и с современными знаниями людей и таких безнравственных положений, как те, которые проповедует церковное христианство. Не говоря уже о всех нелепостях ветхого завета в роде сотворения света прежде солнца, сотворения мира 6000 лет тому назад, помещения всех животных в ковчег и о разных безнравственных гадостях в роде предписания убиения детей и целых населений по приказанию Бога, не говоря и о том нелепом таинстве, про которое Вольтер еще говорил, что были и есть всякие нелепые религиозные учения, но никогда еще не было такого, в котором главный религиозный акт состоял бы в том, чтобы есть своего Бога, - что может быть бессмысленнее того, что богородица - и мать, и дева, что небо открылось и оттуда послышался голос, что Христос улетел на небо и сидит там где-то одесную отца, или что Бог один и три, и не три Бога, как Брама, Вишну и Шива, а один и вместе с тем три. И что может быть безнравственнее того ужасного учения, по которому Бог, злой и мстительный, наказывает всех людей за грех Адама и для спасения их посылает своего сына на землю, зная вперед, что люди убьют его и будут за это прокляты; и того, что спасение людей от греха состоит в том, чтобы быть окрещенным или верить, что всё это так именно и было, и что сын Бога убит людьми для спасения людей, и что те, кто не верит в это, тех Бог казнит вечными мучениями. Так что, даже не говоря о том, что считается некоторыми прибавлением к главным догматам этой религии, как все верования в разные мощи, иконы различных богородиц, просительные молитвы, обращенные к разным, смотря по их специальностям, святым, не говоря и об учении о предопределении протестантов, - самые признанные всеми основы этой религии, установленные никейским символом, так нелепы и безнравственны и доведены до такого противоречия здравому человеческому чувству и разуму, что люди не могут верить в них. Люди могут устами повторять известные слова, но не могут верить в то, что не имеет смысла. Можно устами сказать: я верю в то, что мир сотворен 6000 лет тому назад, пли сказать: я верю, что Христос улетел на небо и сел одесную отца; или то, что Бог один и вместе с тем три; но верить во всё это никто не может, потому что слова эти не представляют никакого смысла. И потому люди нашего мира, исповедующие извращенное христианство, в действительности ни во что не верят. И в этом состоит особенность нашего времени.
Люди нашего времени ни во что не верят, а вместе с тем по тому ложному определению веры, которое взято ими из послания к евреям, неправильно приписываемого Павлу, воображают, что они имеют веру. Вера по этому определению есть осуществление (ύπόσταις) ожидаемого и уверенность (έλεγχος) в невидимом. Но, не говоря уже о том, что вера не может быть осуществлением ожидаемого, так как вера есть душевное состояние, а осуществление ожидаемого есть внешнее событие, вера не есть также и уверенность в невидимом, так как уверенность эта, как и сказано в дальнейшем разъяснении, основывается на доверии к свидетельству истины; доверие же и вера суть два понятия различные. Вера не есть надежда и не есть доверие, а есть особое душевное состояние. Вера есть сознание человеком такого своего положения в мире, которое обязывает его к известным поступкам. Человек поступает согласно своей вере не потому, что, как это сказано в катехизисе, верит в невидимое, как в видимое, и не потому, что надеется получить ожидаемое, а только потому, что, определив свое положение в мире, он естественно поступает соответственно этому положению. Так что земледелец обрабатывает землю и мореплаватель пускается в море не потому, как это сказано в катехизисах, что и тот, и другой верят в невидимое или надеются получить за свою деятельность награду (надежда эта существует, но не она руководит ими), а потому, что они эту деятельность считают своим призванием. Также и религиозно верующий человек поступает известным образом не потому, что он верит в невидимое или ожидает за свою деятельность награду, а потому, что, поняв свое положение в мире, он естественно поступает согласно с этим положением. Если человек определил свое положение в обществе тем, что он чернорабочий, или мастеровой, или чиновник, или купец, то он и считает нужным работать и работает как чернорабочий, как и мастеровой, как чиновник или купец. Точно так же и человек вообще, так или иначе определив свое положение в мире, неизбежно и естественно поступает соответственно этому определению (иногда даже не определению, а смутному сознанию). Так, например, человек, определив свое положение в мире тем, что он член избранного Богом народа, который, чтобы пользоваться покровительством Бога, должен исполнять требования этого Бога, будет жить так, чтобы исполнить эта требования; другой же человек, определив свое положение тем, что он проходил и проходит различные формы существования и что от его поступков зависит более или менее его лучшее или худшее будущее, будет в жизни руководиться этим своим определением; и поведение третьего человека, определившего свое положение тем, что он есть случайное соединение атомов, на котором загорелось на время сознание, долженствующее навсегда уничтожиться, будет различно от двух первых. Поведение этих людей будет совершенно различно, потому что они различно определили свое положение, то есть различно веруют. Вера есть то же, что религия, с той только разницей, что под словом религия мы разумеем наблюдаемое во вне явление, верою же мы называем это же явление, испытываемое человеком в самом себе. Вера есть сознанное человеком отношение к бесконечному миру, из которого вытекает направление его деятельности. И потому истинная вера никогда не бывает неразумна, несогласна с существующими знаниями, и свойством ее не может быть сверхъестественность и бессмысленность, как это думают и как выразил это отец церкви, сказав: credo quia absurdum. [верю, потому что нелепо]. Напротив того, утверждения настоящей веры, хотя и не могут быть доказаны, никогда не только не содержат в себе ничего противного разуму и несогласного с знаниями людей, а всегда разъясняют то, что в жизни без положений веры представляется неразумным и противоречивым. Так, например, древний еврей, веровавший в то, что есть высшее вечное, всемогущее существо, которое сотворило мир, землю, животных и человека и т. п. и обещалось покровительствовать его народу, если народ будет исполнять его закон, не верит во что-либо неразумное, несогласное с его знаниями, а напротив, это верование разъясняло ему многие без того неразъяснимые явления жизни. Точно так же и индус, верующий в то, что души наши были в животных и что, по нашей хорошей или дурной жизни, они перейдут в высшие животные, разъясняет себе этой верой много без нее непонятных явлений. То же и с человеком, считающим жизнь злом и целью жизни успокоение, достигаемое уничтожением желаний. Он верит не в нечто неразумное, а, напротив, в то, что делает его мировоззрение более разумным, чем оно было без этой веры. То же и с истинным христианином, верующим в то, что Бог - духовный отец всех людей и что высшее благо человека достигается тогда, когда он сознает свою сыновность Богу и братство всех людей между собою. Все эти верования, если и не могут быть доказаны, не неразумны сами по себе, а, напротив, придают более разумный смысл явлениям жизни, кажущимся неразумными и противоречивыми без этих верований. Кроме того, все эти верования, определяя положение человека в мире, неизбежно требуют известных соответственных этому положению поступков. И потому, если религиозное учение утверждает положения бессмысленные, ничего не разъясняющие, а только еще больше запутывающие понимание жизни, то это не есть вера, а такое извращение ее, которое потеряло уже главные свойства истинной веры. И вот этой-то веры не только нет у людей нашего времени, но они даже не знают, что это такое, и под верою подразумевают или повторение устами того, что им выдают за сущность веры, или исполнение обрядов, содействующее получению ими желаемого, как их учит этому церковное христианство.
Люди нашего мира живут без всякой веры. Одна часть людей, образованное, богатое меньшинство, освободившееся от церковного внушения, ни во что не верит, потому что считает всякую веру или глупостью, или только полезным орудием для властвования над массами. Огромное же бедное, необразованное большинство, за малыми исключениями людей действительно верующих, находясь под действием гипноза, думает, что верит в то, что ему внушается под видом веры, но что не есть вера, потому что оно не только не объясняет человеку его положение в мире, но только затемняет его. Из этого положения и взаимного отношения неверующего, притворяющегося меньшинства и загипнотизированного большинства и слагается жизнь нашего мира, называемого христианским. И жизнь эта, как меньшинства, держащего в своих руках средства гипнотизации, так и загипнотизированного большинства, ужасна и по жестокости и безнравственности властвующих, и по задавленности и одуренности больших рабочих масс. Никогда ни в какие времена религиозного упадка не доходило пренебрежение и забвение главного свойства всякой религии и в особенности христианской - равенства людей, до той степени, до которой оно дошло в наше время. Главную причину ужасной в наше время жестокости человека к человеку, кроме отсутствия религии, составляет еще и та утонченная сложность жизни, которая скрывает от людей последствия их поступков. Как ни могли быть жестоки Атиллы, и Чингис-ханы, и их люди, но когда они сами лицом к лицу убивали людей, процесс убивания должен был быть неприятен им, и еще более неприятны последствия убивания: вопли родных, присутствие трупов. Так что последствия жестокости умеряли ее. В наше же время мы убиваем людей через такую сложную передачу, и последствия нашей жестокости так старательно убираются и скрыты от нас, что нет никаких сдерживающих жестокость воздействий, и жестокость одних людей к другим всё увеличивается и увеличивается и дошла в наше время до пределов, до которых она еще никогда не доходила. Я думаю, что если в наше время не то, что признанный злодеем Нерон, а самый обыкновенный предприниматель захотел бы сделать пруд из человеческой крови для того, чтобы, по предписанию ученых врачей, купаться в нем больным богатым людям, - он беспрепятственно мог бы устроить это дело, только бы он сделал это в приличных принятых формах, т. е. не заставлял бы насильно людей выпускать свою кровь, а поставил бы их в такое положение, что им нельзя бы было жить без этого, и, кроме того, пригласил бы духовенство и ученых, из которых первое освятило бы новый пруд, как оно освящает пушки, ружья, тюрьмы, виселицы, а вторые приискали бы доказательство необходимости и законности такого учреждения, так же как они приискали доказательство необходимости войн и домов терпимости. Основной принцип всякой религии - равенство людей между собою - до такой степени забыт, оставлен и загроможден всякими нелепыми догматами исповедуемой религии, а в науке это самое неравенство до такой степени - в виде борьбы за существование и выживания более способного (the fittest) - признано необходимым условием жизни, - что уничтожение миллионов жизней человеческих для удобства меньшинства властвующих считается самым обычным и необходимым явлением жизни и постоянно производится. Люди нашего времени не могут нарадоваться на те блестящие, н. ебывалые, колоссальные успехи, которые сделаны техникой в XIX веке. Нет сомнения в том, что никогда не было в истории подобного матерьяльного успеха, т. е. овладевания силами природы, как тот, который достигнут в XIX веке. Но нет сомнения и в том, что никогда в истории не было примера такой безнравственной жизни, свободной от каких-либо сдерживающих животные стремления человека сил, как та, которою живет, всё больше и больше оскотиниваясь, наше христианское человечество. Успех матерьяльный, до которого достигли люди XIX века, действительно велик; но успех этот куплен и покупается таким пренебрежением к самым элементарным требованиям нравственности, до которого еще никогда не доходило человечество даже во времена Чингис-хана, Атиллы или Нерона. Нет спора в том, что очень хороши броненосцы, железные дороги, книгопечатание, туннели, фонографы, рентгеновские лучи и т. п. Всё это очень хорошо, но хороши также, несравненно ни с чем хороши, как говорил Рёскин, жизни человеческие, которые теперь безжалостно миллионами губятся для приобретения броненосцев, дорог, туннелей, не только не украшающих, но уродующих жизнь. На это говорят обыкновенно, что уже придумываются и со временем будут придуманы такие приспособления, при которых жизни человеческие не будут так губиться, как они губятся теперь, - но это неправда. Если только люди не считают всех людей братьями и жизни человеческие не считаются самым священным предметом, который не только не может быть нарушен, но поддержать который считается самой первой, неотложной обязанностью, - т. е. если люди не относятся религиозно друг к другу, они всегда будут для своих личных выгод губить жизни друг друга. Никакой дурак не согласится тратить тысячи, если он может достигнуть той же цели, истратив сотню с придачей нескольких жизней человеческих, находящихся в его власти. В Чикаго давят железными дорогами ежегодно приблизительно одно и то же число людей. И владетели дорог, совершенно основательно, не делают таких приспособлений, при которых не давили бы людей, рассчитав, что ежегодно плата пострадавшим и их семьям меньше, чем процент с суммы, необходимой для таких приспособлений. Очень может быть, что людей, губящих жизни человеческие для своих выгод, устыдят общественным мнением или заставят сделать приспособления. Но если только люди нерелигиозны и делают свои дела перед людьми, а не перед Богом, то, сделав приспособления, охраняющие жизни людей в одном месте, они в другом деле опять будут, как самым выгодным в деле наживы материалом, пользоваться людскими жизнями. Легко завоевать природу и наделать железных дорог, пароходов, музеев и т. п., если не жалеть жизней человеческих. Египетские цари гордились своими пирамидами, и мы восхищаемся ими, забывая про миллионы жизней рабов, загубленных при этих постройках. Также мы восхищаемся нашими дворцами на выставках, броненосцами, океанскими телеграфами, забывая про то. чем мы платим за всё это. Гордиться всем этим мы бы могли только тогда, когда бы всё это делалось свободно свободными людьми, а не рабами. Христианские народы завоевали и покорили американских индейцев, индусов, африканцев, теперь завоевывают и покоряют китайцев и гордятся этим. Но ведь эти завоевания и покорения происходят не оттого, что христианские народы духовно выше покоряемых народов, а, напротив, оттого, что они духовно несравненно ниже их. Не говоря об индусах и китайцах, и у зулусов были и есть какие бы то ни было религиозные, обязательные правила, предписывающие известные поступки и запрещающие другие; у наших же христианских народов нет никаких. Рим завоевал весь мир тогда, когда он стал свободен от всякой религии. Это же самое, только в сильнейшей степени, происходит и теперь с христианскими народами. Все они находятся в одних и тех же условиях отсутствия религии и потому, несмотря на внутренний раздор, все соединены в одну федеративную разбойничью шайку, в которой воровство, грабеж, разврат, убийство отдельных лиц и массами - совершается не только без малейшего угрызения совести, но с величайшим самодовольством, как это на-днях происходило в Китае. Одни ни во что не веруют и гордятся этим, другие притворяются, что веруют в то, что они для своей выгоды, под видом веры, внушают народу, и третьи - огромное большинство, весь народ - принимают за веру то внушение, под которым они находятся, и рабски подчиняются всему, чего требуют от них их властвующие и ни во что не верующие внушители. А требуют эти внушители того же, чего требуют все Нероны, старающиеся чем-нибудь заполнить пустоту своей жизни, - удовлетворения своей безумной, во все стороны расходящейся роскоши. Роскошь же добывается ничем иным, как порабощением людей; а как только есть порабощение, так увеличивается роскошь; а увеличение роскоши неизменно влечет за собою усиление порабощения, потому что только голодные, холодные, связанные нуждою люди могут делать всю жизнь то, что им не нужно, а нужно только для забавы их властителей.
В главе VI книги Бытия есть глубокомысленное место, в котором писатель Библии говорит, что Бог перед потопом, - увидав, что тот дух свой, который он дал людям для служения ему, люди весь употребили на служение своей плоти, - так прогневался на людей, что раскаялся в том, что сотворил их, и прежде, чем уничтожить людей совсем, решил сократить жизнь людей до 120 лет. Вот это самое, за что, по словам Библии, Бог прогневался и сократил их жизнь, случилось теперь с людьми нашего христианского мира. Разум есть та сила людей, которая определяет их отношение к миру; а так как отношение всех людей к миру одно и то же, то установление этого отношения, т. е. религия, соединяет людей. Единение же людей дает им высшее благо и телесное, и духовное, которое им доступно. Совершенное единение - в совершенном высшем разуме, и потому совершенное благо есть идеал, к которому стремится человечество; но всякая религия, отвечающая людям известного общества одинаково на их вопросы о том, что такое мир и что такое они, люди, в этом мире - соединяет людей между собою и потому приближает их к осуществлению блага. Когда же разум, отвлекаясь от свойственной ему деятельности - установления своего отношения к Богу и сообразной этому отношению деятельности. - направляется не только на служение своей плоти и не только на злую борьбу с людьми и другими существами, а и на то, чтобы оправдать эту свою дурную жизнь, противную свойствам и назначению человека, то и происходят те страшные бедствия, от которых теперь страдает большинство людей, и такое состояние, при котором возвращение к разумной и доброй жизни представляется почти невозможным. Язычники, соединенные между собою самым грубым религиозным учением, гораздо ближе к сознанию истины, чем мнимо христианские народы нашего времени, которые живут без всякой религии и среди которых самые передовые люди уверены и внушают другим, что религии не нужно, что гораздо лучше жить без всякой религии. Среди язычников могут найтись люди, которые, сознав несоответствие их веры с их увеличившимися знаниями и запросами их разума, выработают или усвоят более сообразное с душевным состоянием народа религиозное учение, к которому присоединятся их соотечественники и единоверцы. Но люди нашего мира, из которых одни смотрят на религию как на орудие властвования над людьми, другие считают религию глупостью и третьи - всё огромное большинство народа - находясь под внушением грубого обмана, думает, что оно обладает истинной религией, - делаются непроницаемы для всякого движения вперед и приближения к истине. Гордые своими усовершенствованиями, нужными для телесной жизни, и своими утонченными, праздными умствованиями, имеющими целью доказать не только свою правоту, но и превосходство над всеми народами во все века истории, - они коснеют в своем невежестве и безнравственности, в полной уверенности, что они стоят на такой высоте, до которой никогда прежде не достигало человечество, и что каждый пх шаг вперед по пути невежества и безнравственности поднимает их на еще большую высоту просвещения и прогресса. Человеку свойственно устанавливать согласие между своей телесной - физической и разумной - духовной деятельностью. Человек не может быть спокоен, пока так или иначе не установит этого согласия. Но согласие это устанавливается двумя способами. Один - когда человек разумом решает необходимость или желательность известного поступка или поступков и потом уже поступает согласно с решением разума, и другой способ - когда человек совершает поступки под влиянием чувства и потом уже придумывает им умственное объяснение или оправдание. Первый способ согласования поступков с разумом свойствен людям, исповедующим какую-либо религию и на основании ее положений знающим, какие им следует и какие не следует совершать поступки. Второй же способ свойствен преимущественно людям нерелигиозным, не имеющим общей основы для определения достоинства своих поступков и потому всегда устанавливающим согласие между своим разумом и своими поступками не подчинением своих поступков разуму, а тем, что, совершив поступок на основании влечения чувства, они уже потом употребляют разум на оправдание своих поступков. Религиозный человек, зная, что в его деятельности и деятельности других людей хорошо или дурно и почему одно хорошо, а другое дурно, если и видит противоречие между требованиями своего разума и поступками своими и других людей, то все усилия своего разума употребляет на то, чтобы найти средство уничтожения этих противоречий, т. е. научиться наилучшим способом согласовать свои поступки с требованиями своего разума. Нерелигиозный же человек, не имея руководства для определения достоинства поступков, независимо от их приятности, отдаваясь влечению своих чувств, самых разнообразных и часто противоречивых, невольно впадает в противоречия; впадая же в противоречия, старается разрешить или скрыть их более или менее сложными и умными, но всегда лживыми рассуждениями. И потому, тогда как рассуждения людей религиозных всегда просты, немногосложны и правдивы, умственная деятельность нерелигиозных людей делается особенно утонченной, многосложной и лживой. Возьму самый обычный пример. Человек предан разврату, т. е. нецеломудрен, изменяет жене или, не женясь, предается разврату. Если он религиозный человек, он знает, что это дурно, и вся деятельность его разума направлена на то, чтобы найти средства освободиться от своего порока: не иметь общения с блудниками и блудницами, увеличить труд, устроить себе суровую жизнь, не позволять себе смотреть на женщин как на предмет похоти и т. п. И всё это очень просто и всем понятно. Но если развратный человек нерелигиозен, то он тотчас же придумывает всякие объяснения, почему любить женщин очень хорошо. И тут начинаются всякого рода самые сложные и хитрые, утонченные соображения о слиянии душ, о красоте, о свободе любви и т. п., которые чем больше распространяются, тем больше и затемняют дело и скрывают то, что нужно. То же самое для нерелигиозных людей происходит во всех областях деятельности и мысли. Для скрытия внутренних противоречий накопляются сложные, утонченные рассуждения, которые, наполняя ум всякой ненужной дребеденью, отвлекают внимание людей от важного и существенного и дают им возможность коснеть в той лжи, в которой живут, не замечая ее, люди нашего мира. «Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы», сказано в Евангелии. «Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». И потому люди нашего мира, вследствие отсутствия религии, устроив себе самую жестокую, животную, безнравственную жизнь, довели и сложную, утонченную, праздную деятельность ума, скрывающую зло этой жизни, до той степени ненужного усложнения и запутанности, что большинство людей совершенно потеряло способность видеть различие между добром и злом, ложью и истиной. Для людей нашего мира нет ни одного вопроса, к которому бы они могли подойти прямо и просто: все вопросы - экономические, государственные внешние и внутренние, политические, дипломатические, научные, не говоря уже о вопросах философских и религиозных, поставлены так искусственно неправильно и потому окутаны такой густой пеленой сложных, ненужных рассуждений, утонченных извращений понятий и слов, софизмов, споров, что все рассуждения о таких вопросах кружатся на одном месте, ничего не захватывая, и, как колесо без приводного ремня передачи, ни к чему не приводят, кроме как к той единой цели, в виду которой они и возникают, к тому, чтобы скрыть самим от себя и от людей то зло, в котором они живут и которое они делают.
Во всех областях так называемой науки нашего времени - одна и та же черта, делающая праздными все усилия ума людей, направленные на исследования различных областей знания. Черта эта состоит в том, что все исследования науки нашего времени обходят существенный вопрос, на который требуется ответ, и исследуют побочные обстоятельства, исследование которых ни к чему не приводит и тем больше запутываются, чем дальше они продолжаются. Оно и не может быть иначе при науке, избирающей предметы исследования случайно, а не по требованиям религиозного мировоззрения, определяющего, что и зачем нужно изучать, что прежде и что после. Так, например, в модном теперь вопросе социологии или политической экономии, казалось бы, есть только один вопрос: зачем и почему одни люди ничего не делают, а другие на них работают? (Если есть другой вопрос, состоящий в том, зачем люди работают порознь, мешая друг другу, а не вместе, сообща, что было бы выгоднее, то этот вопрос включен в первый. Не будет неравенства, не будет и борьбы.) Казалось бы, есть только один этот вопрос, но наука и не думает ставить его и отвечать на него, а заводит свои рассуждения издалека и ведет их так, что ни в каком случае ее выводы не могут разрешить, ни содействовать разрешению основного вопроса. Начинаются рассуждения о том, что было и что есть, и это бывшее и существующее рассматривается, как нечто столь же неизменное, как течение светил небесных, и выдумываются отвлеченные понятия ценности, капитала, прибыли, процента, и является сложная, уже сто лет продолжающаяся игра ума людей, спорящих между собой. В сущности же вопрос разрешается очень легко и просто. Разрешение его в том, что, так как все люди братья и равны между собой, то каждый должен поступать с другими, как он хочет, чтобы поступали с ним, и что поэтому всё дело в разрушении ложного религиозного закона и восстановлении истинного. Но передовые люди христианского мира не только не принимают этого решения, а, напротив, стараются скрыть от людей возможность такого разрешения и для этого предаются тем праздным умствованиям, которые они называют наукой. То же происходит в области юридической. Казалось бы, один существенный вопрос - в том, почему есть люди, которые позволяют себе производить насилия над другими людьми, обирать их, запирать, казнить, посылать на войну и многое другое. Разрешение вопроса очень просто, если рассматривать его с единственной приличествующей вопросу точки зрения - религиозной. С религиозной точки зрения человек не может и не должен совершать насилия над своим ближним, и потому для разрешения вопроса нужно одно: разрушить все суеверия и софизмы, разрешающие насилия, и ясно внушить людям религиозные начала, исключающие возможность насилия. Но передовые люди не только не делают этого, но все хитрости своего ума употребляют на то, чтобы скрыть от людей возможность и необходимость этого разрешения. Они пишут горы книг о разных правах - гражданском, уголовном, полицейском, церковном, финансовом и др. и излагают и спорят на эти темы, совершенно уверенные, что они делают не только полезное, но очень важное дело. На вопрос же о том, почему люди, будучи по существу равными, могут одни судить, принуждать, обирать, казнить других, не только не отвечают, но не признают его существования. По их учению выходит, что насилия эти совершают не люди, а что-то такое отвлеченное, называемое государством. Точно так же обходятся и замалчиваются учеными людьми нашего времени существенные вопросы и скрываются внутренние противоречия во всех областях знания. В знаниях исторических существенный вопрос один: как жил рабочий народ, т. е. 999 / 1000 всего человечества? И на вопрос этот нет и подобия ответа, вопрос этот и не существует, и пишутся горы книг историками одного направления о том, как болел живот у Лудовика XI, какие гадости делала Елизавета английская и Иоанн IV, и кто были министры, и какие писали стихи и комедии литераторы для забавы этих королей и их любовниц, и министров. Историки же другого направления пишут о том, какая была местность, в которой жили народы, чем они питались и чем торговали, и какое носили платье, вообще всё то, что не могло иметь влияния на жизнь народа, но было последствием его религии, которая признается историками этой категории последствием пищи и одежды, употреблявшихся народом. А между тем, ответ на вопрос о том, как жил прежде рабочий народ, может дать только признание религии необходимым условием жизни народа, и потому ответ - в изучении тех религий, которые исповедывали народы и которые поставили народы в то положение, в котором они находились. В знаниях естественно-исторических, казалось бы, не было особенной надобности затемнять здравый смысл людей; но и тут, по тому складу мысли, который усвоила наука нашего времени, вместо самых естественных ответов на вопрос о том, что такое и как подразделяется мир живых существ, растений и животных, - разводится праздная, неясная и совершенно бесполезная болтовня, направленная преимущественно против библейской истории сотворения мира, о том, как произошли организмы, что собственно никому не нужно, да и невозможно знать, потому что происхождение это, как бы мы ни объясняли его, всегда скроется для нас в бесконечном времени и пространстве. И на эти темы придуманы теории и возражения, и добавления на теории, которые составляют миллионы книг, и неожиданный вывод из которых один тот, что закон жизни, которому должен подчиниться человек, есть борьба за существование. Мало того, науки прикладные, как технология, медицина, вследствие отсутствия религиозного руководящего начала, невольно уклоняются от разумного назначения и получают ложные направления. Так, вся технология направлена не на то, чтоб облегчить труд народа, а на усовершенствования, нужные только богатым классам, еще более разделяющие богатых от бедных, господ от рабов. Если же выгоды от этих изобретений и усовершенствований, крупицы от них попадают и к народным массам, то никак не потому, что они предназначены народу, а только потому, что они по свойству своему не могут быть удержаны от народа. То же и с врачебной наукой, дошедшей в своем ложном направлении до того, что она доступна только богатым классам; массы же народа по своему образу жизни и бедности и по пренебрежению к главным вопросам улучшения жизни бедноты, могут ею пользоваться в таких размерах и при таких условиях, что эта помощь только яснее показывает отклонение врачебной науки от своего назначения. Поразительнее же всего это уклонение от основных вопросов и извращение их в том, что в наше время называется философией. Казалось бы, есть один вопрос, подлежащий решению философии: что мне делать? И на этот вопрос, если и бывали в философии христианских народов, хотя и соединенные с величайшей ненужной путаницей, ответы, как они были у Спинозы, Канта в его критике практического разума, у Шопенгауэра, в особенности у Руссо, ответы эти все-таки были. Но в последнее время, со времени Гегеля, признававшего всё существующее разумным, вопрос: что делать? отходит на задний план, философия всё внимание направляет на исследование того, что есть, и подведение этого под вперед составленную теорию. Это первая спускающаяся ступень. Вторая ступень, спускающая мысль человеческую еще ниже, это признание основным законом борьбу за существование только потому, что эту борьбу можно наблюдать у животных и растений. По этой теории считается, что погибель слабейших есть закон, которому не надо препятствовать. Наконец, наступает третья ступень, при которой мальчишеское оригинальничанье полубезумного Ничше, не представляющее даже ничего цельного и связного, какие-то наброски безнравственных, ничем не обоснованных мыслей, признается передовыми людьми последним словом философской науки. В ответ на вопрос: что делать? уже прямо говорится: жить в свое удовольствие, не обращая внимания на жизнь других людей. Если бы кто сомневался в том страшном одурении и озверении, до которого дошло в наше время христианское человечество, то, не говоря уже о последних бурских и китайских преступлениях, защищаемых духовенством и признаваемых подвигами всеми сильными мира, один необыкновенный успех писаний Ничше может служить этому неопровержимым доказательством. Являются бессвязные, самым пошлым образом бьющие на эффект писания одержимого манией величия, бойкого, но ограниченного и ненормального немца. Писания эти ни по таланту, ни по основательности не имеют никакого права на внимание публики. Такие писания не только во времена Канта, Лейбница, Юма, но и 50 лет тому назад не только не обратили бы на себя внимания, но не могли бы и появиться. В наше же время всё так называемое образованное человечество восхищается бредом г-на Ничше, оспаривает и разъясняет его, и сочинения его печатаются на всех языках в бесчисленном количестве экземпляров. Тургенев остроумно говорил, что есть обратные общие места, которые часто употребляются бездарными людьми, желающими обратить на себя внимание. Все знают, например, что вода мокрая, и вдруг человек с серьезным видом говорит, что вода сухая, - не лед, - а вода сухая, и с уверенностью высказанное такое утверждение обращает на себя внимание. Точно так же весь мир знает, что добродетель состоит в подавлении страстей, в самоотречении. Это знает не одно христианство, с которым мнимо воюет Ничше, но это вечный высший закон, до которого доросло всё человечество в браманизме, буддизме, конфуцианстве, в древней персидской религии. И вдруг является человек, который объявляет, что он убедился, что самоотречение, кротость, смирение, любовь, - всё это пороки, губящие человечество (он имеет в виду христианство, забывая все другие религии). Понятно, что такое утверждение в первое время озадачивает. Но, подумав немного и не найдя в сочинении никаких доказательств этого странного положения, всякий разумный человек должен откинуть такую книгу и подивиться на то, что нет в наше время такой глупости, которая не нашла бы издателя. Но с книгами Ничше это не так. Большинство людей, мнимо просвещенных, серьезно разбирают теорию о сверхчеловечестве, признавая автора ее великим философом, наследником Декарта, Лейбница, Канта. А всё происходит оттого, что для большинства мнимо просвещенных людей нашего времени противно напоминание о добродетели, о главной основе ее - самоотречении, любви, стесняющих и осуждающих их животную жизнь, и радостно встретить хоть кое-как, хоть бестолково, несвязно выраженное то учение эгоизма, жестокости, утверждения своего счастия и величия на жизни других людей, которым они живут.
Христос упрекал фарисеев и книжников за то, что они взяли ключи царства небесного и сами не входят и других не впускают. То же самое делают теперь ученые книжники нашего времени: эти люди взяли в наше время ключи, - не царства небесного, а просвещения и сами не входят, и других не впускают. Жрецы, духовенство, посредством всякого рода обманов и гипноза, внушили людям, что христианство не есть учение, проповедующее равенство всех людей и потому разрушающее весь теперешний языческий строй жизни, а что оно, напротив, поддерживает его, предписывает различать людей, как звезды друг от друга, предписывает признавать то, что всякая власть от Бога, и беспрекословно повиноваться ей, внушает вообще людям угнетенным, что такое положение их - от Бога и что они должны нести его с кротостью и смирением и покоряться тем угнетателям, которые могут быть не только не кротки и смиренны, но должны, исправляя других, учить, наказывать - как императоры, короли, папы, епископы и всякою рода мирские и духовные власти - и жить в блеске и роскоши, доставлять которую обязаны им их подчиненные. Правящие же классы, благодаря этому ложному учению, которое они усиленно поддерживают, властвуют над народом, заставляя его служить своей праздности, роскоши и порокам. Между тем как единственные люди, ученые, освободившиеся от гипноза и которые одни могли бы за избавить народ от его угнетения и которые говорят, что они желают этого, вместо того, чтобы делать то, что могло бы достигнуть этой цели, делают совершенно обратное, воображая, что они этим служат народу. Казалось бы, люди эти из самого поверхностного наблюдения над тем, чем прежде всего озабочены те, которые держат народ в своей власти, могли бы понять, чем движутся и чем удерживаются народы в известном положении, и должны бы были на этот двигатель обратить все свои силы, но они не только не делают этого, но считают это совершенно бесполезным. Люди эти как будто не хотят видеть этого и старательно, часто искренно делая для народа самые разнообразные дела, не делают того одного, которое прежде всего нужно народу. А стоит им только посмотреть на то, с какой ревностью отстаивают все властители этот двигатель, которым они властвуют над народами, чтобы понять, на что надо направить свои усилия для того, чтобы освободить народ от его порабощения. Что защищает турецкий султан и за что больше всего держится? И почему русский император, приезжая в город, первым делом едет прикладываться к мощам или иконам? И почему, несмотря на весь напускаемый на себя лоск культурный, немецкий император во всех речах своих, кстати или не кстати, говорит о Боге, о Христе, о святости религии, присяги и т. п.? А потому, что все они знают, что власть их держится на войске, а войско, возможность существования войска, - только на религии. И если богатые люди бывают особенно набожными и притворяются верующими, ходят в церковь и соблюдают день субботний, то всё это они делают преимущественно потому, что инстинкт самосохранения подсказывает им, что с религией, которую они исповедуют, связано их исключительное, выгодное положение в обществе. Все эти люди часто не знают, каким образом власть их держится религиозным обманом, но они по чувству самосохранения знают, где их слабое место, то, на чем держится их положение, и защищают прежде всего это место. Люди эти всегда допустят и допускали в известных пределах социалистическую, даже революционную пропаганду; религиозные же основы они никогда не дадут затронуть. И потому, если передовые люди нашего времени - ученые, либералы, социалисты, революционеры, анархисты - не могут из истории и из психологии понять то, чем движутся народы, то они этим наглядным опытом могли бы убедиться, что двигатель их не в матерьяльных условиях, а только в религии. Но, удивительное дело, ученые, передовые люди нашего времени, очень тонко разбирающие и понимающие условия жизни народов, не видят того, что режет глаза своей очевидностью. Если люди, поступающие так, умышленно оставляют народ в его религиозном невежестве для того, чтобы удерживать свое выгодное положение среди меньшинства, то это ужасный, отвратительный обман. Поступающие так люди суть те самые лицемеры, которых больше всех людей, даже которых одних из всех людей осуждал Христос, осуждал потому, что никакие изверги и злодеи не вносили и не вносят столько, сколько эти люди, зла в жизнь человечества. Если же люди эти искренни, то единственное объяснение этого странного затмения только то, что как массы находятся под внушением ложной религии, так и эти мнимо-просвещенные люди нашего времени находятся под внушением ложной науки, решившей, что тот главный нерв, которым всегда жило и живет человечество, уже не нужен ему и может быть заменен чем-то другим.
В этом заблуждении или коварстве книжников - образованных людей нашего мира - особенность нашего времени, и в этом причина того бедственного состояния, в котором живет христианское человечество, и того озверения, в которое оно более и более погружается. Обыкновенно передовые, образованные люди нашего мира утверждают, что те ложные религиозные верования, которые исповедуются массами, не представляют особенной важности и что не стоит того и нет надобности прямо бороться с ними, как это делали прежде Юм, Вольтер, Руссо и др. Наука, по их мнению, т. е. те разрозненные, случайные знания, которые они распространяют между народом, сама собой достигнет этой цели, т. е. что человек, узнав о том, сколько миллионов миль от земли до солнца и какие металлы находятся в солнце и звездах, перестанет верить в церковные положения. В этом искренном или неискренном утверждении или предположении - великое заблуждение или ужасное коварство. С самого первого детского возраста - возраста наиболее восприимчивого к внушению, - именно тогда, когда воспитателю нельзя быть достаточно осторожным в том, что он передает ребенку, ему внушаются несовместимые с разумом и знаниями, нелепые и безнравственные догматы так называемой христианской религии. Учат ребенка не вмещающемуся в здравый разум догмату троицы, сошествию одного из этих трех богов на землю для искупления рода человеческого, его воскресению и вознесению на небо; учат ожиданию второго пришествия и наказания вечными мучениями за неверие в эти догматы; учат молиться о своих нуждах и многому другому. И когда все эти, несогласные ни с разумом, ни с современными знаниями, ни с человеческой совестью, положения неизгладимо запечатлеются в восприимчивом уме ребенка, его оставляют одного, предоставляя ему разбираться, как он умеет, в тех противоречиях, которые вытекают из принятых и усвоенных им, как несомненная истина, догматов. Никто не говорит ему о том, как он может и должен примирить эти противоречия. Если же богословы и пытаются примирить эти противоречия, то попытки эти еще более запутывают дело. И понемногу человек привыкает (в чем усиленно поддерживают его богословы) к тому, что разуму нельзя верить, и что поэтому на свете всё возможно, и что в человеке нет ничего такого, посредством чего он сам мог бы отличать добро от зла и ложь от истины, что в самом важном для него - в своих поступках - он должен руководиться не своим разумом, а тем, что скажут ему другие люди. Понятно, какое страшное извращение в духовном мире человека должно произвести такое воспитание, поддерживаемое и в зрелом возрасте всеми средствами внушения, которое постоянно с помощью духовенства производится над народом. Если же сильный духом человек с великим трудом и страданиями и освободится от того гипноза, в котором его воспитали с детства и держали в зрелом возрасте, то извращение его души, при котором ему внушалось недоверие к своему разуму, не может пройти бесследно, как не может в мире физическом пройти бесследно отравление организма каким-либо сильным ядом. Освободившись от гипноза обмана, такой человек, ненавидя ту ложь, от которой он только что освободился, естественно усвоит то учение передовых людей, по которому всякая религия считается одним из главных препятствий движения человечества вперед по пути прогресса. А усвоив это учение, такой человек сделается, как и его учителя, тем беспринципным, т. е. бессовестным человеком, руководящимся в жизни только своими похотями и не только не осуждающим себя за это, но считающим себя поэтому на высшей, доступной человеку, точке духовного развития. Так это будет с самыми духовно сильными людьми. Менее же сильные, хотя и пробудятся к сомнению, никогда не освободятся вполне от того обмана, в котором они воспитаны, и, примкнув к различным хитросплетенным туманным теориям, которые должны оправдывать нелепости принятых ими догматов, и придумывая такие, живя в области сомнений, тумана, софизмов и самообманывания, будут только содействовать ослеплению масс и противодействовать их пробуждению. Большинство же людей, не имеющих ни сил, ни возможности бороться с внушением, произведенным над ними, поколениями будет жить и умирать, как оно живет теперь, лишенное высшего блага человека - истинного религиозного понимания жизни, и будет всегда составлять только покорное орудие для властвующих и обманывающих его классов. И про этот-то ужасный обман передовые ученые люди говорят, что он не важен и не стоит прямо бороться с ним. Единственное объяснение такого утверждения, если искренни утверждающие, это то, что они сами находятся под гипнозом ложной науки; если же они не искренни, то - в том, что нападение на установленные верования не выгодно и часто опасно. Так или иначе, во всяком случае, утверждение о том, что исповедание ложной религии безвредно или хотя не важно, и что поэтому можно распространять просвещение, не разрушая религиозного обмана - вполне несправедливо. Спасение человечества от его бедствий только в освобождении его от того гипноза, в котором держат его жрецы, так же, как и от того, в которое вводят его ученые. Для того, чтобы влить что-либо в сосуд, надо прежде всего освободить его от того, что он содержит. Точно так же необходимо освободить людей от того обмана, в котором их держат, для того, чтобы они могли усвоить истинную религию, т. е. правильное, соответствующее развитию человечества отношение к началу всего - к Богу и выведенное из этого отношения руководство деятельности.
«Но разве есть истинная религия? Все религии бесконечно различны, и мы не имеем права ни одну назвать истинной только потому, что она более подходит к нашим вкусам», скажут люди, рассматривающие религии по их внешним формам, как некоторую болезнь, от которой они чувствуют себя свободными, но которой страдают еще остальные люди. Но это неправда: религии различны по своим внешним формам, но все одинаковы в своих основных началах. И вот эти-то основные начала всех религий и составляют ту истинную религию, которая одна в наше время свойственна всем людям и усвоение которой одно может спасти людей от их бедствий. Человечество живет давно, и как преемственно выработало свои практические приобретения, так не могло не выработать тех духовных начал, которые составляли основы его жизни, и вытекающих из них правил поведения. То, что ослепленные люди не видят их, не доказывает того, что их не существует. Такая общая всем людям религия нашего времени - не какая-нибудь одна религия со всеми ее особенностями и извращениями, а религия, состоящая из тех религиозных положений, которые одинаковы во всех распространенных и известных нам, исповедуемых более чем 9 / 10 рода человеческого религиях, - существует, и люди еще не окончательно озверели только потому, что лучшие люди всех народов, хотя и бессознательно, но держатся этой религии и исповедуют ее, и только внушение обмана, которое с помощью жрецов и ученых производится над людьми, мешает им сознательно принять ее. Положения этой истинной религии до такой степени свойственны людям, что как только они сообщены людям, то принимаются ими как что-то давно известное и само собой разумеющееся. Для нас эта истинная религия есть христианство, в тех положениях его, в которых оно сходится не с внешними формами, а с основными положениями браманизма, конфуцианства, таоизма, еврейства, буддизма, даже магометанства. Точно так же и для исповедующих браманизм, конфуцианство и др. истинная религия будет та, основные положения которой сходятся с основными положениями всех других больших религий. И положения эти очень просты, понятны и не многосложны. Положения эти в том, что есть Бог, начало всего; что в человеке есть частица этого божественного начала, которую он может уменьшить или увеличить в себе своей жизнью; что для увеличения этого начала человек должен подавлять свои страсти и увеличивать в себе любовь; и что практическое средство достижения этого состоит в том, чтобы поступать с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобою. Все эти положения общи и браманизму, и еврейству, и конфуцианству, и таоизму, и буддизму, и христианству, и магометанству. (Если буддизм и не дает определения Бога, то он все-таки признает то, с чем сливается и во что погружается человек, достигая нирваны. Так что то, с чем соединяется человек, погружаясь в нирвану, есть то же начало, признаваемое Богом в еврействе, христианстве и магометанстве.) «Но это не религия», скажут люди нашего времени, привыкшие принимать сверхъестественное, т. е. бессмысленное, за главный признак религии; «это всё, что хотите: философия, этика и рассуждения, но не религия». Религия, по их понятию, должна быть нелепа и непонятна (credo quia absurdum). А между тем, только из этих самых положений или, скорее, вследствие проповедания их, как религиозного учения, и выработались длинным процессом извращения все те нелепости чудес и сверхъестественных событий, которые считаются основными признаками всякой религии. Утверждать, что сверхъестественность и неразумность составляют основные свойства религии, всё равно, что, наблюдая только гнилые яблоки, утверждать, что дряблая горечь и вредное влияние на желудок есть основное свойство плода яблока. Религия есть определение отношения человека к началу всего и вытекающего из этого положения назначения человека и, из этого назначения, правил поведения. И общая религия, основные положения которой одни и те же во всех исповеданиях, вполне удовлетворяет этим требованиям. Она определяет отношение человека к Богу, как части к целому; из этого отношения выводит назначение человека, состоящее в увеличении в себе божественного свойства; назначение же человека выводить практические правила из правила: поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобою. Часто люди сомневаются, и я сам одно время сомневался в том, что такое отвлеченное правило, как то, чтобы поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой, могло быть столь же обязательным правилом и руководителем поступков, как правила более простые - поста, молитвы, причащения и т. п. Но на это сомнение дает неопровержимый ответ душевное состояние хотя бы русского крестьянина, который скорее умрет, чем выплюнет в навоз причастие, а между тем по приказанию людей готов убивать своих братьев. Почему бы требования, выведенные из правила - поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой, - как то: не убивать своих братьев, не ругаться, не прелюбодействовать, не мстить, не пользоваться нуждою братьев для удовлетворения своих прихотей и многие другие, - не могли бы быть внушены с такою же силой и стать столь же обязательными и непереступимыми, как вера в святость причастия, образов и т. п. для людей, вера которых основана более на доверии, чем на ясном внутреннем сознании?
Истины общей всем людям религии нашего времени так просты, понятны и близки сердцу каждого человека, что, казалось бы, стоило бы только родителям, правителям и наставникам вместо отживших и нелепых учений о троицах, богородицах, искуплениях, индрах, тримуртиях и улетающих на небо буддах и Магометах, в которые они сами часто не верят, - внушать детям и взрослым те простые, ясные истины общей всем людям религии, метафизическая сущность которой в том, что в человеке живет дух божий, и практическое правило которой в том, что человек должен поступать с другими так, как он хочет, чтобы поступали с ним, - и сама собою изменилась бы вся жизнь человеческая. Только бы так же, как теперь внушается детям и подтверждается взрослым вера в то, что Бог послал сына своего, чтобы искупить грехи Адама, и установил свою церковь, которой надо повиноваться, и вытекающие из этого правила о том, чтобы тогда-то и там-то молиться и приносить жертвы и тогда-то воздерживаться от такой-то пищи и в такие-то дни от работы, - внушалось и подтверждалось бы то, что Бог есть дух, проявление которого живет в нас, и силу которого мы можем увеличить своей жизнью. Только бы внушалось это и всё то, что само собой вытекает из этих основ, так же, как внушаются теперь ни на что ненужные рассказы о невозможных событиях и вытекающие из этих рассказов правила бессмысленных обрядов - и вместо неразумной борьбы и разъединения очень скоро, без помощи дипломатов, международного права и конгресса мира и политико-экономов и социалистов всех подразделений, наступила бы мирная, согласная и руководимая единой религией счастливая жизнь человечества. Но ничего подобного не делается: не только не разрушается обман ложной религии и не проповедуется истинная, но люди, напротив, всё больше и больше, всё дальше и дальше удаляются от возможности принять истину. Главная причина того, почему люди не делают того, что так естественно, необходимо и возможно, состоит в том, что люди нашего времени так привыкли, вследствие долгой безрелигиозной жизни, устраивать и упрочивать свой быт насилием, штыками, пулями, тюрьмами, виселицами, что им кажется, что такое устройство жизни не только нормально, но что другого и не может быть. Мало того, что так думают те, для которых существующий порядок выгоден, но и те, которые страдают от него, так одурены производимым над ними внушением, что точно так же считают насилие единственным средством благоустройства в человеческом обществе. А между тем это-то устроение и упрочение общественного быта насилиями более всего удаляет людей от понимания причин своих страданий и потому от возможности истинного благоустройства. Совершается нечто подобное тому, что делает дурной или злонамеренный врач, загоняя внутрь злокачественную сыпь, не только обманывая этим больного, но усиливая самую болезнь и делая невозможным лечение ее. Людям властвующим, поработившим массы и думающим и говорящим: «apres nous le deluge» [«после нас хоть потоп»], кажется очень удобным посредством армии, духовенства, солдат и полицейских и угроз штыков, пуль, тюрьм, рабочих домов, виселиц - заставить порабощенных людей продолжать жить в своем одурении и порабощении и не мешать властвующим пользоваться своим положением. И властвующие люди делают это, называя такой порядок вещей благоустройством, а между тем ничто не препятствует столько истинному общественному благоустройству, как это. В сущности такое устройство есть не только не благоустройство, но устройство зла. Если бы люди наших обществ с остатками тех религиозных начал, которые все-таки живут в массах, не видели перед собой постоянно совершаемых преступлений теми людьми, которые взяли на себя обязанность блюсти порядок и нравственность в жизни людей - войны, казни, тюрьмы, подати, продажи водки, опиума - они никогда не подумали бы сделать одной сотой тех дурных дел, обманов, насилий, убийств, которые они делают теперь с полной уверенностью, что дела эти хороши и свойственны людям. Закон жизни человеческой таков, что улучшение ее как для отдельного человека. так и для общества людей возможно только через внутреннее, нравственное совершенствование. Все же старания людей улучшить свою жизнь внешними друг на друга воздействиями насилия служат самой действительной проповедью и примером зла, и потому не только не улучшают жизни, а, напротив, увеличивают зло, которое, как снежный ком, нарастает всё больше и больше и всё больше и больше удаляет людей от единственной возможности истинного улучшения их жизни. По мере того, как обычай насилий и преступлений, совершаемых под видом закона самими блюстителями порядка и нравственности, становится чаще и чаще, жесточе и жесточе, и всё более и более оправдывается внушением лжи, выдаваемой за религию, люди всё более и более утверждаются в мысли, что закон их жизни не в любви и служении друг другу, а в борьбе и в поедании друг друга. И чем больше они утверждаются в этой мысли, спускающей их на степень животного, тем труднее им пробудиться от того гипноза, в котором они находятся, и принять в основу жизни истинную, общую всему человечеству религию нашего времени. Устанавливается ложный круг: отсутствие религии делает возможным животную жизнь, основанную на насилии; животная жизнь, основанная на насилии, делает всё больше и больше невозможным освобождение от гипноза и усвоение истинной религии. И потому люди не делают того, что естественно, возможно и необходимо в наше время: не разрушают обмана подобия религии и не усваивают и не проповедуют истинной.
Возможен ли выход из этого заколдованного круга, и в чем он? Сначала представляется, что вывести людей из этого круга должны бы правительства, взявшие на себя обязанность руководить для их блага жизнью народов. Так думали всегда люди, пытавшиеся заменить строй жизни, основанный на насилии, разумным и основанным на взаимном служении и любви устройством жизни. Так думали и христианские реформаторы и так же основатели различных теорий европейского коммунизма, итак же думал знаменитый китайский реформатор Ми-ти, который предлагал правительству, для блага народа, обучать детей в школах не военным наукам и упражнениям и давать награды взрослым не за военные подвиги, а обучать детей и взрослых правилам уважения и любви, и за подвиги любви выдавать награды и поощрения. Так же думали и думают многие русские религиозные реформаторы из народа, которых я знал и знаю многих теперь, начиная с Сютаева и кончая старичком, уже 5 раз подававшим прошение государю о том, чтобы он приказал отменить ложную религию и проповедывать истинное христианство. Людям естественно кажется, что правительства, оправдывающие свое существование заботами о благе народном, должны, для упрочения этого блага, желать употребить то единственное средство, которое ни в каком случае не может быть вредным для народа, а может только произвести самые плодотворные последствия. Но правительства никогда нигде не только не брали на себя этой обязанности, но, напротив, всегда и везде с величайшей ревностью защищали существующее ложное, отжившее вероучение и всеми средствами преследовали тех, кто пытался сообщить народу основы истинной религии. В сущности оно не может быть иначе: правительствам обличать ложь существующей религии и проповедывать истинную значит то же, что человеку рубить тот сук, на котором он сидит. Но если не делают этого правительства, то, казалось бы, наверное должны сделать это те ученые люди, которые, освободившись от обмана ложной религии, желают, как они говорят, служить тому народу, который воспитал их. Но эти люди так же, как и правительства, не делают этого: во-первых, потому, что они считают нецелесообразным подвергать себя неприятностям и опасностям гонений от правительств за обличение того обмана, который защищается правительством и который по их убеждению сам собою уничтожится; во-вторых, потому, что, считая всякую религию пережитым заблуждением, им нечего предложить народу на место того обмана, который бы они разрушили. Остаются те большие массы неученых людей, находящихся под гипнозом церковного и правительственного обмана и потому считающих, что то подобие религии, которое внушено им, есть единственная истинная религия, и другой никакой нет и быть не может. Массы эти находятся под постоянным усиленным воздействием гипноза; поколения за поколениями рождаются, живут и умирают в том одуренном состоянии, в котором их держат духовенство и правительство, и если и освобождаются от него, то неизбежно попадают в школу ученых, отрицающих религию, и влияние их становится столь же бесполезно и вредно, как влияние их учителей. Так что для одних это невыгодно, для других это невозможно.
Выхода как будто нет никакого. И действительно, для нерелигиозных людей нет и не может быть из этого положения никакого выхода: люди, принадлежащие к высшим правящим классам, если и будут притворяться, что озабочены благом народных масс, никогда серьезно не станут (они и не могут этого делать, руководясь мирскими целями) уничтожать того одурения и порабощения, в котором живут массы и которые дают им возможность властвовать над ними. Точно так же и люди, принадлежащие к порабощенным, тоже, руководствуясь мирскими целями, не могут желать ухудшить свое и так тяжелое положение борьбою с высшими классами из-за обличения ложного учения и проповедания истинного. Ни тем, ни другим незачем это делать, и если они умные люди - они никогда не станут делать этого. Но не то для людей религиозных, тех религиозных людей, которые, как бы ни было развращено общество, всегда блюдут своей жизнью тот священный огонь религии, без которого не могла бы существовать жизнь человечества. Бывают времена (таково наше время), когда людей этих не видно, когда они, всеми презираемые и унижаемые, безвестно проводят свои жизни, как у нас - в изгнании, тюрьмах, дисциплинарных батальонах; но они есть, и ими держится разумная жизнь человеческая. И эти-то религиозные люди, как бы мало их ни было, одни могут разорвать и разорвут тот заколдованный круг, в котором закованы люди. Люди эти могут сделать это, потому что все те невыгоды и опасности, препятствующие мирскому человеку итти против существующего строя жизни, не только не существуют для религиозного человека, но усиливают его рвение в борьбе с ложью и в исповедании словом и делом того, что он считает божеской истиной. Если он принадлежит к правящим классам, он не только не захочет скрывать истину ради выгод своего положения, но, напротив, возненавидя эти выгоды, все силы души своей употребит на освобождение себя от этих выгод и на проповедаете истины, так как у него в жизни уже не будет иной, кроме служения Богу, цели. Если же он принадлежит к порабощенным, то, точно так же, отказавшись от общего людям в его положении желания улучшить условия своей плотской жизни, такой человек не будет иметь другой цели, кроме исполнения воли Бога обличением лжи и исповеданием истины, и никакие страдания и угрозы не могут уже заставить его перестать жить сообразно с тем единым смыслом, который он признает в своей жизни. И тот и другой будут так поступать так же естественно, как мирской человек трудится, неся лишения для приобретения богатств или для угождения тому властелину, от которого он ожидает себе выгоды. Всякий религиозный человек поступает так, потому что просвещенная религией душа живет уже не одной жизнью этого мира, как живут нерелигиозные люди, а живет вечной, бесконечной жизнью, для которой так же ничтожны страдания и смерть в этой жизни, как ничтожны для работника, пашущего поле, мозоли на руках и усталость членов. Вот эти-то люди разорвут тот заколдованный круг, в котором закованы теперь люди. Как ни мало таких людей, как ни низко их общественное положение, как ни слабы они образованием или умом, люди эти так же верно, как огонь зажигает сухую степь, зажгут весь мир, все высохшие от долгой безрелигиозной жизни сердца людей, жаждущие обновления. Религия не есть раз навсегда установленная вера в совершившиеся будто бы когда-то сверхъестественные события и в необходимость известных молитв и обрядов; не есть также, как думают ученые, остаток суеверий древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения в жизни; религия есть устанавливаемое, согласное с разумом и современными знаниями отношение человека к вечной жизни и к Богу, которое одно движет человечество вперед к предназначенной ему цели. «Душа человеческая есть светильник Бога», говорит мудрое еврейское изречение. Человек есть слабое, несчастное животное до тех пор, пока в душе его не горит свет Бога. Когда же свет этот загорается (а зажигается он только в душе, просвещенной религией), человек становится могущественнейшим существом мира. И это не может быть иначе, потому что действует тогда в нем уже не его сила, а сила божья. Так вот что такое религия и в чем ее сущность.
08.07.2015 / Теймур Атаев
"Все то страшное зло, которое он видел и узнал за это время.., торжествовало, царствовало, и не виделось никакой возможности не только победить его, но даже понять, как победить его".
Л. Н. Толстой. Воскресение
Лев Толстой и религия... Обширнейшая тема. Необъятная. Вроде как исследованная в различных плоскостях, но всегда живая и вызывающая неподдельный интерес. А иначе и быть не может, если человек представляет веру не механическим отправлением ритуалов, а велением души и следствием разумного восприятия жизни. Будучи выдающейся личностью, Л. Толстой не воспринимал формализм, которому чиновники от религии подчиняли желание верующего исполнять Божьи заповеди. Он не мог и не хотел мириться с переподчинением духовно-нравственной составляющей веры её ритуальной оболочке. Именно эти настроения мыслителя, в прекрасной форме выражавшего свои мысли, вызывали гневную реакцию светских и церковных властей. И именно они, как бы некоторые критики ни утверждали обратное, подняли христианскую религиозную мысль на значительную высоту.
О жизни, религии и вере
Всякий человек, пишет Л. Толстой, живет для своего блага и не ощущает "себя живущим", если этого желания себе блага нет. Однако постепенно он видит, что мирская жизнь, "составленная из связанных между собой личностей, желающих истребить и съесть одна другую", не только не может быть для него благом, но будет, наверное, "великим злом". Он приходит к пониманию того, что на земле человек "не может иметь ни блага, ни жизни". Но если "жить надо", осуществление этого невозможно "без руководства в выборе своих поступков" и без ответа на вопрос о смысле жизни.
Человек не может не видеть в истории, продолжает он, что движение общей жизни находится не в усилении борьбы существ между собою, а в уменьшении несогласия в социуме, когда мир из вражды и несогласия, через подчинение разуму, приходит все более к согласию и единству. Поэтому единственным благом оказывается такое, при котором исчезла бы борьба с другими существами, а само благо не прекращалось. Ключом к этому становится любовь, влекущая личность к "жертве своего плотского существования для блага других". Любить - "значит желать делать доброе", и "только такая любовь дает полное удовлетворение разумной природе человека". Ввергнув же "свою жизнь в подчинение закону разума и в проявление любви", личность ощущает внутри себя и вокруг не только "лучи света того нового центра жизни, к которому он идет", но и действие этого света, проходящего через него, на окружающих (1).
В этом контексте Л. Толстой поднимает под религией "такое согласное с разумом и знаниями человека установленное им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с это бесконечностью и руководит его поступками" (2). Поэтому религия - это двигатель "жизни человеческих обществ", и без неё разумное существование невозможно. Вера же - это особое душевное состояние, позволяющее человеку осознавать свое положение и обязывающее его к "известным поступкам" (3).
Но если религиозное учение утверждает положения бессмысленные, ничего не разъясняющие, а только еще больше запутывающие понимание жизни, пишет мыслитель, то это есть не вера, а ее извращение, утерявшее главные свойства истинной веры. Л. Толстой пишет об этом в противовес тому, что многие подразумевают под верой "исполнение обрядов, содействующее получению ими желаемого, как их учит этому церковное христианство" (3).
В его понимании вера - это ответ на то, как жить на свете "не перед людьми, а перед Тем, Кто послал меня в мир". Поэтому верить нужно не "в чудеса, в таинства, в обряды", а в "один закон", годный "для всех людей мира" (4). В основе истинной веры - руководство не "внешними правилами, а внутренним сознанием возможности достижения божеского совершенства" (5). Поэтому она подобна "ключу воды живой" (6) и не нуждается в храмах, украшениях, пении, многолюдных собраниях, а наоборот, "входит в сердце всегда только в тишине и уединении" (4).
"Учение Христа в том, что между Богом и людьми не может быть посредников и что нужны для жизни не дары Богу, а наши добрые дела. В этом весь закон Бога". Поэтому главное дело жизни - становление "лучше и лучше" (4). Любой "может погубить свою душу или спасти ее". Спасение предполагает трудолюбие, терпение и милосердие (2), и достижение этих добродетелей обеспечивается подавлением собственных страстей (3). Поэтому истинная церковь - "соединение людей истинно и потому одинаково верующих" - всегда внутренняя, т. е. "царство Божие - внутри вас" (4). Говоря другими словами, "царство Бога на земле" подразумевает высшее на земле благо - "мир всех людей между собою" (6).
Говоря устами князя Дмитрия Нехлюдова, писатель утверждает, что "люди достигнут наивысшего доступного им блага" лишь благодаря исполнению Божьих заповедей. Соблюдение постулатов - "единственный разумный смысл человеческой жизни", а "всякое отступление от этого есть ошибка, тотчас же влекущая за собою наказание" (7). Раз мы созданы по воле Божьей, рассуждает мыслитель, то должны следовать Его постулатам, что позволит нам быть счастливыми. А для достижения всеобщего счастья есть только одно средство: "надо, чтобы каждый поступал с другими так, как он желал бы, чтобы поступали с ним" (8).
Следующие Божьим постулатам "будут счастливее" тех, кто не исполняет их, ибо Христос "учит жизни такой, при которой, кроме спасения от погибели личной жизни, еще и здесь, в этом мире, меньше страданий и больше радостей, чем при жизни личной" (6). Люди приходят к истине разными путями, а вот насколько они близки к ней - "судить не нам". Вместе с тем заблуждение многих очевидно, и разобраться в этом человеку дано лишь тогда, когда он критично взглянет на то, что он считает правильным, и перестанет слепо "работать на основании того самого ложного понимания жизни, которое ему нужно изменить" (9).
Эти мысли Лев Толстой пропагандирует и доводит до людей в яркой художественной форме. Считающийся прототипом писателя один из героев романа "Анна Каренина" - Константин Левин - задается вопросом, кем бы он был и как прожил свою жизнь без веры, не зная, "что надо жить для Бога, а не для своих нужд". И сам же отвечает: "Я бы грабил, лгал, убивал. Ничего из того, что составляет главные радости моей жизни, не существовало бы для меня". Поэтому он называет очевидным и несомненным "проявление Божества" через явленные откровением миру "законы добра", в признании которых герой "соединен с другими людьми в одно общество верующих", именуемое "церковью". С момента осознания этого, Левин оценивает каждую минуту своей жизни не только не бессмысленной, но имеющей "несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее" (10).
Почему не христианство?
Л. Толстой признает, что с приходом к вере его желания стали иными, а доброе и злое переменились местами. Он сравнивает себя с человеком, "тщетно отыскивающим по ложному рисунку значение кучи мелких перемешанных кусков мрамора", но вдруг "по одному наибольшему куску" догадавшимся, "что это совсем другая статуя". Возникающая же на ее месте новая, "вместо прежней бессвязности кусков", становится единым целым.
Вслед за этой констатацией писатель раскрывает свое прежнее восприятие Церкви как организации, кроме "смысла любви, смирения и самоотвержения" несущей и "смысл догматический и внешний". Сначала он пытается примириться с этой стороной религии, которая кажется ему чуждой, но не бесполезной. Однако со временем он отдаляется от Церкви по причине "странности" ее догматов и признания ею "гонений, казней и войн". Главное же, что подрывает его доверие к этому институту, - это равнодушие Церкви к тому, что мыслитель воспринимает как сущность учения Христа, и её пристрастие к тому, что кажется ему несущественным (6).
По его словам, "допущение убийства каких-бы то ни было людей разрушало главную основу христианского учения", посему совместить его с лишением жизни нельзя было иначе, как толкованиями, изменявшими "самую сущность" христианства. Но когда это осуществилось, "христианство, извратившись, перестало быть религией". Церковная вера стала делом "обычая", "выгоды" или поэтического настроения, а для религии, должной соединять людей и руководить их поступками, не осталось места (11). Иными словами, учение Христа о смирении и любви формально возвеличивалось священнослужителями, но при этом одобрялось многое несовместимое с ним.
Христианское настроение, составлявшее "смысл моей жизни", продолжает писатель, напрямую уничтожалось и по другой причине. Мне были не нужны церковные правила о соблюдении таинств, постов, молитв, но иных, основанных на христианских истинах, не предоставлялось. В данном контексте Л. Толстой называет удивительным тот факт, что места в Евангелии, ставшие основой для ряда принятых Церковью догматов, были самыми неясными, тогда как наиболее доступными были те, "из которых вытекало исполнение учения". В противовес этому в церковном учении догматы и производные от них "обязанности христианина" фиксировались "отчетливым образом", а о следовании идеям Иисуса говорилось в "туманных, мистических выражениях".
В контексте сказанного Л. Толстой касается и иудаизма, подчёркивая запутанность еврейского народа "бесчисленными внешними правилами, наложенными на него левитами под видом Божеских законов". Не только отношение человека к Богу, констатирует он, но праздники, гражданские и семейные отношения и даже подробности личной жизни признаны повелением и законом Бога. Однако Иисус, аналогично всем пророкам, берет из воспринимаемого людьми "законом Бога" и, откидывая наслоения, "свое откровение вечного закона" связывает с этими основами. Несмотря на звучащие в его адрес упреки в нарушении преподносимого "законом Бога", его учение "переходит в другую среду и в века", но и здесь оно оказывается не застрахованным от новых толкований. В результате этого в очередной раз происходит "подстановка человеческих низменных измышлений на место Божеского откровения", и вновь "буква покрывает дух" (6).
В своём "Предисловии к Евангелию" мыслитель прямо заявляет, что "под именем христианского учения" проповедовалась не идеология Иисуса, а учение церкви (12), которое, став запутанным, неясным и лицемерным, запрещало чтение Евангелия; признавало "поклонение иконам, мощам, непогрешимость Папы", а также "обязательность покорности светской власти" (вместо признания таковой со стороны "одного Бога") (11).
"По церковным толкованиям", учение Иисуса Христа представало не законом об улучшении жизни "для себя и для других", а правилом - "во что надо верить светским людям, чтобы, живя дурно, все-таки спастись на том свете". В понимании Л. Толстого всё это противоречило простому и ясному Евангелию, и поэтому до своего полного освобождения "от церковного учения", он "не понимал учения Христа о жизни во всём его значении" (6).
Духовной жаждою томим
Л. Толстой откровенничает, что на протяжении многих лет, размышляя над тем, почему человечество, имея возможность жить счастливо, "губит поколения за поколениями", он "отодвигал коренную причину этого безумия". Поначалу он связывал происходящее с неправильным экономическим устройством и государственным насилием, но со временем пришел к убеждению: "основная причина всего - это ложное религиозное учение" (8). Посредством "ложного воспитания и подкупа, насилия и гипноза", властвующие получают возможность "распространять ложное учение", скрывающее от людей "истинное учение, которое одно даёт несомненное и неотъемлемое благо всем людям" (13).
Мы так привыкли к окружающей нас религиозной лжи, пишет Л. Толстой, что не замечаем всего того ужаса, глупости и жестокости, которыми переполнено учение церкви. Но "дети замечают, и души их неисправимо уродуются этим учением". Ведь когда чистый, невинный, необманутый и еще не обманывающий ребенок спрашивает о принципах, "которыми должен человек руководиться в этой жизни", мы отвечаем ему "грубой, несвязной, часто просто глупой и, главное, жестокой еврейской легендой". Ему внушают как святую истину, что некогда "какое-то странное, дикое существо", именуемое Богом, сотворило мир и человека, после согрешения которого "злой бог наказал его и всех нас за это", а потом "выкупил у самого себя смертью своего сына". Поэтому "главное дело" человечества состоит в умилостивлении "этого бога" и избавлении от "страданий, на которые он обрек нас".
Считая происходящее полезным для ребенка, с удовольствием слушая повторение им всех этих ужасных рассказов, констатирует писатель, мы не осознаем страшного духовного переворота, происходящего в этот момент в душе ребенка. Главной жизненной целью для него становится "избавление себя от заслуженных кем-то вечных наказаний, мучений, которые этот бог наложил на всех людей". Таким образом, вместо заложенного от природы осознания своей ответственности в области нравственной ребенку внушается необходимость слепой веры в "безнравственные рассказы" и глотания окрошки из вина и хлеба. А значит, "преподавание так называемого закона божия детям" становится наиболее ужасным преступлением по отношению к ним. Но власть предержащим нужен этот обман, ибо "с ним неразрывно связана их власть" (8).
В романе «Воскресение» духовные переживания писателя нашли отражение в описании богослужения в тюремной церкви: "священник, одевшись в особенную, странную и очень неудобную парчовую одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюдце и потом клал их в чашу с вином, произнося при этом различные имена и молитвы". Параллельно дьячок сначала читал, а потом пел "разные славянские, сами по себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения" молитвы. Суть их сводилась преимущественно к пожеланию благоденствия государю и его семейству. Библейские стихи произносились "таким странным, напряженным голосом, что ничего нельзя было понять". Зато очень внятно были прочтены места из Евангелия о том, "как Христос, воскресши, прежде чем улететь на небо и сесть по правую руку своего Отца", изгнал из Марии Магдалины семь бесов, а затем объявил: "кто же поверит и будет креститься, будет спасен".
Смысл таинства состоял в том, что "вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь Бога". Главным действием было равномерное и плавное взмахивание священником салфеткой "над блюдцем и золотой чашей". Считалось, "что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью". Вкусивший это будто "съел кусочек тела бога и выпил глоток его крови", о чём громко пел дьячок.
Вслед за этим священник, "став перед предполагаемым выкованным золоченым изображением (с черным лицом и черными руками) того самого бога, которого он ел, освещенным десятком восковых свечей, начал странным и фальшивым голосом не то петь, не то говорить" славословия и молитвы. В завершение этого длительного процесса он вышел на середину церкви с золоченным крестом, и остальные стали подходить к нему, а он "совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему арестантам", которые старались поцеловать их.
Описывая происходившее в церкви, писатель отмечает, что никому из присутствующих "не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник", самым определенным образом учил, что "молиться надо не в храмах, а в духе и истине; главное же, запретил не только судить людей и держать их в заточении, мучать, позорить, казнить, как это делалось здесь, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что он пришел выпустить пленных на свободу".
Все свершившееся Л. Толстой окрестил "величайшим кощунством", и не только потому, что священники воображают поедание и испитие тела и крови бога, но и потому, что они подвергают людей "жесточайшим мучениям" и скрывают от них "величайшее благо", которое Христос принёс им. Но люди знали, "что надо верить в эту веру". Священник знал об этом, потому что "за исполнение треб этой веры он восемнадцать лет уже получал доходы". Дьячок, совсем позабывший "сущность догматов этой веры", знал лишь то, что за поминание, молебен и даже за теплоту "есть определенная цена, которую настоящие христиане охотно платят". Начальство тюрьмы и надзиратели, никогда не вникавшие в основу христианства и в совершаемое в церкви, "верили, что непременно надо верить в эту веру, потому что высшее начальство и сам царь верят в нее". Большинство арестантов, за исключением немногих, тоже верили, что в золоченых иконах, свечах и крестах заключается "таинственная сила, посредством которой можно приобресть большие удобства в этой и в будущей жизни" (7).
Неудивительно, что за сиими рассуждениями последовало определение высшего государственного органа церковно-административной власти в Российской империи - Святейшего Правительствующего Синода - об отлучении графа Льва Толстого от церкви, правда, без анафемы.
Отлученный от церкви
В сим документе утверждается, что Церковь Христова не раз сталкивалась с хулой и нападениями "от многочисленных еретиков", к числу коих относится и "новый лжеучитель, граф Лев Толстой". Подчёркивая заслуги православной церкви, " вскормившей и воспитавшей" писателя, авторы выражают возмущение тем, что данный от Бога талант он использует "на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви", на истребление в умах и сердцах людей "веры православной". Далее говорится о проповедовании им ниспровержения "всех догматов православной Церкви и самой сущности веры христианской": отвержении "личного живаго Бога, во Святой Троице славимого", отрицании "Господа Иисуса Христа - Богочеловека", непризнании и глумлении над церковными таинствами. С учетом сознательного и намеренного отторжения Л. Толстым самого себя "от всякого общения с Церковию православною", последняя "не может считать его своим членом, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею" (14).
По словам супруги мыслителя Софьи Андреевны, "глупое отлучение это" вызвало "негодование в обществе, недоумение и недовольство среди народа". Л. Толстому "делали овации, приносили корзины с живыми цветами, посылали телеграммы" (15).
В письме Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию (Вадковскому) она пишет, что "жизнь души человеческой, с религиозной точки зрения, никому, кроме Бога, неведома и, к счастью, не подвластна". Констатируя свою принадлежность Церкви, "от которой никогда не отступлю", С. Толстая подчеркивает, что для нее эта структура "есть понятие отвлеченное, и служителями ее" она признает исключительно понимающих истинное значение церкви. Виновными "в грешных отступлениях" от церкви Софья Андреевна называет не заблудившихся людей, а горделивых наставников, вместо "любви, смирения, и всепрощения" ставших "духовными палачами тех, кого вернее простит Бог" за их "полную отречения от земных благ" жизнь ("хотя и вне церкви"), чем "носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от церкви пастырей ее" (16).
Говоря об отправке копии письма и на имя тогдашнего обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева, Софья Андреевна вспоминала, как после ознакомления с черновиком Лев Николаевич с улыбкой произнёс: "Об этом вопросе написано столько книг, что и в этот дом не уложить, а ты хочешь их учить своим письмом" (17).
Его реакция на Определение Синода прозвучала позднее. Назвав документ незаконным или умышленно двусмысленным, содержащим "в себе клевету и подстрекательство к бурным чувствам и поступкам", Л. Толстой признал, что действительно "отрекся от церкви, называющей себя православной". Однако причиной этого шага писатель определил не восстание против Господа, а наоборот, желание служить Ему "всеми силами души".
Описав пройденный путь от сомнений до тщательного исследования "теоретически и практически" церковного учения, он заключает, что "учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. И я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым" (18).
В целом отлучение Л. Толстого от церкви внешне выглядит как результат противостояния авторитетного писателя и официальных религиозных структур, и подобная оценка бытует вплоть до сегодняшнего дня. Так, российский поэт и философ Петр Киле отмечает, что Л. Толстой, будучи и желая "остаться добрым христианином", подверг критике, "срывая все маски, как и создавал свои художественные произведения, обветшалую церковность"(19).
В свою очередь литературовед Павел Басинский называет расхождение Толстого и Православной Церкви "глубокой русской драмой". В то время как "все просвещенное дворянство было насквозь неверующим", этот глубоко верующий человек переживает о судьбах церкви, зажатой "в государственные тиски". Однако его категоричные взгляды и прямота, с одной стороны, и необдуманные решения церковников, с другой стороны, делают "конструктивный диалог" невозможным (20).
Тонкость тут в том, что в рамках сформировавшейся к тому времени в России политической системы религиозные структуры не были самостоятельным звеном во властной иерархии. И трудно предположить, что отлучение от церкви личности не всероссийского, а мирового масштаба произошло независимо от светских властей. А это наводит на мысль о том, что у царской власти были свои счёты со своенравным графом.
Неурожай - от Бога, голод - от царя
Взаимоотношения Л. Толстого с царем Николаем II не сложились, если так можно выразиться, с момента его коронации в 1896 г. Как известно, торжества по этому поводу, проходившие на Ходынском поле на окраине Москвы, привели к ужасной трагедии. По словам самого Николая II, толпа, с самой ночи ожидавшая бесплатной "раздачи обеда и кружки, наперла на постройки, и тут же произошла страшная давка", причём, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!" (21).
Гуляния, обернувшиеся трагедией, вызвали возмущение русской интеллигенции. Бессмысленную жестокость произошедшего на Ходынке реалистично описал поэт и публицист Федор Сологуб (22). Не остался в стороне и Лев Николаевич. В своем дневнике он оценил происшедшее как "страшное событие" (23), а в письме русскому историку искусств Владимиру Стасову подчеркнул, что "безумие и мерзости" коронации ужасно тревожат его (24).
Дальше - больше! В 1989 году Л. Толстой тяжело переживает известия о неурожае в России и критикует власти из-за бедственного положения в деревнях. Он пишет, что существующие в России законы сводятся "в действительности к отсутствию всяких законов и полному произволу приставленных к управлению крестьянами чиновников" (25).
Наверняка, власти не оставили без внимания эту критику, как и более раннюю публикацию Л. Толстого в связи с голодом в 1891 году, на которую московская цензура наложила запрет. Тогда писатель возмущался: для чего нужно клеветать на народ, определяя причиной его бедности лень с пьянством? Ведь очевидно, что "наше богатство обусловливается его бедностью". Говоря другими словами, "народ голоден оттого, что мы слишком сыты", а значит для насыщения народа достаточно просто "не объедать его" (26).
Вместе с тем писатель не ограничивался словесным радением и резкими выпадами в адрес властей, но и принимал самое активное участие в оказании помощи нуждающимся: объезжал деревни, устраивал бесплатные столовые и пекарни, в которых выпекался хлеб и продавался по низкой цене (27).
С первых лет пребывания у власти Николая II Л. Толстой активно выступал и в поддержку религиозной "оппозиции". В 1897 г. он писал, что "в России не только нет веротерпимости, но существует самое ужасное, грубое преследование за веру, подобного которому нет ни в какой стране не только христианской, но даже магометанской" (28).
Это письмо было написано в защиту молокан, считавшихся "еретиками". Об этом свидетельствует факт его направления самодержцу на следующий день после заметки Л. Толстого в своем дневнике за 9 мая: "Нынче приехали патровские молоканы, я написал начерно письмо царю" (29).
Молокане не признавали икон и креста, не почитали святых, отрицали необходимость священнической иерархии, не совершали крестного знамения, считали греховным употребление спиртного. По религиозным соображениям они отказывались от военной службы, в связи с чем власти отбирали у них детей для направления в православные монастыри. Молокан ссылали на окраины Российской империи, в частности, Азербайджан. Община русских молокан до сих пор благополучно проживает в Исмаиллинском районе Азербайджана (30).
Л. Толстой неоднократно хлопотал перед Николаем II за молокан, особенно за возвращение им отобранных детей. В одном из писем он пишет: "Всякие религиозные гонения, кроме того, что роняют престиж правительства, лишают правителей любви народа, не только не достигают той цели, для которой учреждаются, но производят обратное действие" (31).
Значительную помощь Л. Толстой оказывал и духоборам, под которыми понимались приверженцы русского православия, отвергавшие внешнюю обрядность церкви и исповедовавшиеся только Богу. В первой половине XIX в. их тоже начали высылать в Грузию и Азербайджан, а позднее несколько тысяч духоборов эмигрировали в неосвоенные районы Канады.
С целью оказания материальной помощи эмигрантам Л. Толстой учредил благотворительный фонд из своего авторского гонорара за "Воскресение". В 1899 г. он писал супруге Софье: "Денег оказывается больше, чем я думал. Если ты не послала, то пошли 10 000, а остальные оставь" (32). Ответив, что уже отослала 9 000, она добавила: "Можно опять послать, это очень не дорого и просто делается" (33). Тогда же Л. Толстой предложил духоборам: "Хорошо бы было считать эти деньги, так же как и другие средства, которые вы получаете от добрых людей и от работающих братьев, общим достоянием и не делить по душам, а давать больше тем, у кого больше нужда" (34).
Однако наиболее ощутимым ударом писателя по политике Николая II был его антицерковный настрой, и этот вопрос требует небольшого разъяснения.
Столкновение "двух царей"
Известно, что после вступления в брак с византийской царевной Софьей Палеолог в 1472 г. великий князь московский Иван III принял родовой герб византийских императоров - двуглавого орла. Спустя несколько лет в лапах птицы появляются меч с православным крестом. Как писал Федор Достоевский, русский народ именует своего государя "православным царём" и принимает его как "охранителя, единителя, а когда прогремит веление божие, - и освободителя православия и всего христианства, его исповедующего, от мусульманского варварства и западного еретичества" (35).
Данный акцент представляется важным, поскольку Николай II впитал в себя эту мысль с раннего юношества, чему во многом способствовал его преподаватель Константин Победоносцев. Император верил, что абсолютная монархия покоится на православии, самодержавии и народности - трёх столпах, еще в период правления Николая I представленных российским министром Сергеем Уваровым как основное условие "политического существования" империи (36).
По словам русского генерала Александра Мосолова, цесаревич на заре формирования личностных ориентаций приобрел незыблемую веру "в судьбоносность своей власти". Его призвание исходило от Бога, он "ответствовал" только перед Ним и совестью (37).
Возможно, ограничься сарказм автора "Воскресения" критикой русского православия на бытовом уровне, серьезной реакции властей не последовало бы. Однако роман оказался квинтэссенцией обличения не только церкви, но и посредством тонкостей сюжетной линии государственных институтов. Закрыть глаза на это в Петербурге не могли, даже когда речь шла о писателе такого масштаба, так как речь шла о безопасности сложившейся властной системы. Не случайно авторитетный советский и российский кинорежиссер Александр Митта, называя "Воскресение" самым реалистическим и социально затребованным романом Л. Толстого и описывая его как "кровоточащий срез российской жизни от дворцов аристократии до борделей и смрадных тюрем", отмечает, что редко какое произведение так сильно влияло на умы людей (38).
Даже вышеперечисленных фактов предостаточно для понимания того, что у российского государя был зуб на Л. Толстого. И не маленький. Тем более что писатель происходил из дворянского рода, известного с 1351 года и был членом-корреспондентом Императорской Академии наук. Будучи внуком генерала Николая Волконского, граф Толстой состоял в близком родстве с князьями Голициными, Горчаковыми, Трубецкими и принадлежал к аристократической верхушке русского дворянства.
Неудивительно, что русский самодержец рассматривал антицерковную линию Л. Толстого как доказательство антигосударственного характера всей деятельности мыслителя. Да и в светском обществе того периода творчество Л. Толстого воспринималось как вызов имперской системе. По словам известного журналиста и издателя Александра Суворина, в государстве было "два царя": Николай II и Лев Толстой. "Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение, Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост" (39).
К слову, прикомандированный в то время к Московскому охранному отделению (будущий генерал-майор российского корпуса жандармов) Александр Спиридович писал, что он и его сотрудники "слышали не раз" о высочайшем повелении "не трогать ни в коем случае" Льва Толстого, находившегося "под защитой его величества" (40).
Но при всем "не трогать" даже беглый взгляд на взаимоотношения Николая II с великим писателем позволяет со значительной долей вероятности предположить, что граф Толстой был отлучен от церкви непосредственно по инициативе Николая II. Но этот шаг властей не только не успокоил ситуацию, но и способствовал еще большему отчуждению, говоря словами А. Суворина, "двух царей".
Противление злу пером
Через два месяца после отлучения в Обращении к "царю и его помощникам" Л. Толстой назвал невозможным, чтобы в обществе было "хорошо одним, а другим - худо". Поэтому власти "ловят, заключают, казнят, ссылают" людей тысячами, а количество недовольных от этого только увеличивается (41).
В письме же Николаю II писатель констатирует, что треть России находится "в положении усиленной охраны, то есть вне закона". Растёт армия полицейских, тюрьмы и места ссылок переполнены, к политическим преступникам причисляют простых рабочих. Войска "высылаются с боевыми патронами против народа", в результате чего происходят "братоубийственные кровопролития". Говоря о нелепостях "запрещений" (в аспекте цензуры) и жестокости религиозных гонений, Л. Толстой идет ещё дальше. Он называет двойной неправдой уверенность царской власти в свойственности "русскому народу" православия и самодержавия. Это заблуждение, пишет он, призывая Николая II не верить тому, что крики "ура" при встрече царя с толпой народа являются проявлением "преданности вам". Часто люди, "которых Вы принимаете за выразителей народной любви к Вам, суть не что иное, как полицией собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный Вам народ". Но если бы Вы услышали крестьян, сгоняемых с деревень, "на холоду и в слякоти" дожидающихся "царского проезда", Вы бы не услышали признаний в любви. Да и вообще "во всех сословиях никто уже не стесняется" бранить царя "и смеяться над ним". Посему, резюмирует Л. Толстой, самодержавие "есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением". Поддерживать самодержавие и "связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия", но такими мерами "можно угнетать народ", а не "управлять им" (42).
В 1908 г. Л. Толстой пишет, что осуществляемые властями "бесчеловечные насилия и убийства", кроме прямого зла, причиняемого жертвам и их семьям, наносят "величайшее зло всему народу". Эти преступления, говорит он, в сотни раз превышают содеянное ворами, разбойниками и всеми революционерами вместе взятыми. Причем антинародные акции совершаются под видом поддерживаемого "нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь". Тем самым "представители христианской власти, руководители, наставники, одобряемые и поощряемые церковными служителями", разрушают в людях "последние остатки веры и нравственности, совершая величайшие преступления: ложь, предательство, всякого рода мучительство", вплоть до бесконечных убийств. Все это осуществляется власть предержащими для того, чтобы "самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живёте и которое вам кажется благом" (43).
В рамках ярого антивластного настроя Л. Толстой ни на йоту не пересмотрел своего отношения к церкви. Комментируя в своём дневнике посещение епископом Тульским Парфением (Левицким) Ясной Поляны в 1909 г., писатель приходит к выводу, что архиерей, "очевидно, желал бы обратить меня, если не обратить, то уничтожить, уменьшить мое, по их - зловредное влияние на веру в церковь". Особенно неприятным в этой связи Л. Толстой называет просьбу епископа "дать ему знать, когда я буду умирать". "Как бы не придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я «покаялся» перед смертью", - пишет он. Вслед за этим он фиксирует своё нежелание возвращаться к церкви и причащаться перед смертью, ибо для "меня всякое такое внешнее действие, как причастие, было бы отречением от души, от добра, от учения Христа, от Бога". Резюмируя сказанное, Л. Толстой завещает похоронить его "без так называемого богослужения, а зарыть тело в землю" (44).
Наверное, последовавшая вскоре смерть писателя стала облегчением для властей. Но и она, естественно, не изменила отношения к нему самого Николая II. После ухода Л. Толстого из жизни, С. Толстая обратилась к правителю с просьбой приобрести Ясную Поляну в государственную собственность: «Передать его колыбель и могилу под охрану государства составляет горячее наше желание. Я сочла последним к его памяти долгом сохранить неприкосновенным в руках русского государства его материальное и духовное богатство».
В письме речь шла и о рукописях, которые вдова писателя желала оставить "в России и для России", безвозмездно предоставляя их "на вечное хранение в одно из русских государственных или научных хранилищ". 10 мая 1911 г. она "взялась передать письмо" к государю (45), но тот нашёл покупку имения графа Толстого правительством "недопустимой" (46).
Внешне причиной неудовлетворения просьбы С. Толстой вновь проявился Святейший Синод. Обер-прокурор Владимир Саблер заявил, что "увековечение на казенный счет памяти Толстого будет понято как желание упрочить в народном сознании его учение", а это недопустимо "ввиду Определения Святейшего Синода об отпадении его от православной церкви".
Правда, со стороны Николая II Софье Андреевне была пожалована пенсия "из средств государственного казначейства в размере 10 000 рублей в год", в связи с чем вдова писателя отправила министру финансов Владимиру Коковцову письмо "с благодарностью государю" (47).
Весьма симптоматично, что после прихода к власти большевиков В. И. Ленин подписал в 1918 г. постановление правительства о возложении на местный Совет государственной обязанности по охране имения "Ясная Поляна" со всеми "историческими воспоминаниями", связанными с ним (48).
Получается, что Л. Толстой оказался для коммунистов «своим»?
Лев Толстой - революционер?
В целом в произведениях и взглядах великого писателя Ленин видел "кричащие противоречия". Считая его гениальным художником, оставившим "не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы", социальную значимость писателя Ленин видел в присутствии в нём сильного и искреннего протеста "против общественной лжи и фальши"; трезвого реализма; срывания "всяческих масок"; беспощадной критики "капиталистической эксплуатации"; разоблачения "правительственных насилий"; комедии "суда и государственного управления" (49).
Л. Толстой "с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью" демонстрировал "внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество": церковь, суд, буржуазную науку (50).
С другой стороны, писал Ленин, Л. Толстой - это "истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом", проповедовавший одну из "самых гнусных вещей, какие только есть на свете" - религию, желавший "поставить на место попов по казенной должности - попов по нравственному убеждению". По мнению Ленина, это было важнейшим внутренним противоречием писателя, так как, отражая "накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого", он параллельно проявлял "незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости" (49).
В свою очередь Георгий Плеханов отмечал, что для общественного развития "нравственная проповедь" Л. Толстого имела отрицательное значение. Причину этого он видел в "метафизическом идеализме" писателя, приведшем его к убеждению, что единственный способ решения российских проблем - обращение "угнетателей на путь истины". Л. Толстой считал возможным "нравственно исправить угнетателей, побудив их отказаться от повторения дурных поступков", но, по словам Г. Плеханова, "ему в голову не приходило спросить себя, не обусловливается ли власть истязующего над истязуемым и казнящего над казнимым какими-нибудь общественными отношениями, для устранения которых можно и должно было бы воспользоваться насилием" (51).
Признаем, оба марксиста подходили к творчеству Л. Толстого с позиции его вклада в развитие революционного движения в России. Но разве революция всегда предполагает насильственный слом государственного строя и физическое устранение политических противников? Разве не с таким подходом Л. Толстой боролся значительную часть своей творческой жизни? Разве не в искоренении такого взгляда на вещи (причем на фоне констатации жестокости властвующих и задавленности рабочих масс) он видел предназначение религии!?
Основным лейтмотивом учения Л. Толстого был призыв к любви человека к человечеству и природе посредством духовного-нравственного формата веры. А раз так, нельзя ли назвать его революционером человеческого духа? Ведь он фактически стремился привнести новые ощущения во взаимоотношения человека с Богом! Неслучайно Максим Горький, которого принято считать "пролетарским" писателем, писал о Толстом: "Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, - мысль о Боге" (52).
Однако для Ленина неприятие и отторжение Л. Толстым царской власти имели гораздо большее значение, чем его религиозные воззрения. Как подчеркивал нарком просвещения Александр Луначарский, Л. Толстой призывал к упразднению частной собственности и церкви, ставшей "утверждением господства правящего класса" (53).
Так что нет ничего странного в том, что упомянутым выше постановлением правительства Ясная поляна была передана в пожизненное пользование Софьи Андреевны. На следующий год Народный комиссариат просвещения выдал дочери Л. Толстого - Александре Львовне - Охранную грамоту, объявлявшую усадьбу и её имущество "национальным достоянием" (48).
В 1920 г. Ленин подписал Декрет о национализации Дома Л. Толстого в Москве. Спустя год Ясная Поляна стала "национальной собственностью РСФСР" (54). А. Толстая организовала здесь культурно-просветительный центр, при поддержке советской власти открыла школу. Однако, как она пишет в своих воспоминаниях, вскоре коммунисты стали требовать "марксистского освещения Толстого при даче объяснений в толстовских музеях"; усилилась "антирелигиозная пропаганда, детей священников выгоняли из школ" (55).
Могло ли быть по-другому в условиях известного отношения советской власти к религии? В частности, А. Луначарский, называя Л. Толстого "большим союзником" коммунистов в борьбе с "церковным строем", подчеркивал расхождение с ним "в его глубоко религиозных воззрениях": "Мы - атеисты, - он верил в бога, как в духа, как в правду, как в любовь, которая, по его мнению, лежит в основе всего мира и самого существования человеческого сознания" (56).
Комментарии, как говорится, излишни. Разве человек, верующий в Бога, как в правду, мог стать полностью "своим" для большевиков?
К слову, в этом контексте судьба Л. Толстого имеет немалое сходство с судьбой выдающегося азербайджанского просветителя Мирзы Фатали Ахундова. В том смысле, что значительный пласт их политико-религиозных воззрений не только был отвергнут властными структурами, но и остался непонятым простым народом.
Две родственные души
Автор уже обращался к образу М. Ф. Ахундова, обретшего весьма спорную славу ниспровергателя догматов Ислама. Выступая против догматического подхода к положениям Ислама со стороны чиновников от религии, азербайджанский просветитель в большей степени подвергал критике ритуальные наслоения, преподносимые духовенством как основы веры.
Немалую часть критики М. Ф. Ахундов направлял и в адрес светских властей, способных "только к различным насилиям" против народа, подвергая его "страшным истязаниям и мучениям". При этом мыслитель фиксировал, что в случае вкушения "сладости свободы" и осознания "прав человечества", народ никогда "не согласился бы на подобное позорное рабство", устремившись к наукам и приближаясь к прогрессу. Но "данный путь неосуществим", пока "существует ненавистная твоя религия".
Заключительный аккорд действительно можно трактовать как антиисламскую позицию Мирзы Фатали. Но только в случае выдергивания этой цитаты из контекста. Насколько представляется, М. Ф. Ахундов имел в виду не собственно религию, а привнесенные в неё искусственные сложности.
Негодуя на лишение людей духовной свободы, он отмечает, что "духовенство заставляет нас исполнять всякое глупое свое требование под видом религиозных треб", сопряженное с немалым ущербом "для нашего кармана и здоровья". А "мы не смеем пикнуть против его воли, опасаясь адской муки, будучи с малолетства напуганы им этою будущею инквизициею".
Вместе с тем, по его словам, только в случае вникания в сущность религии с помощью наук в народе произойдет понимание, "что такое она, какая в ней необходимость и в какой форме она должна быть". При ином развитии событий на фоне "бесчисленных различных разветвлений" нравственность будет "совершенно забыта чрез них" (57).
Как видим, пути Л. Толстого и М. Ф. Ахундова имели много общего? Ратуя за счастье народа, они были отвергнуты духовенством и остались непонятыми простым людом - в немалой степени из-за неприятия их взглядов власть предержащими? Граф Л. Толстой был отлучен от церкви, а погребению М. Ф. Ахундова на мусульманском кладбище чинились препятствия. Наверняка, кто-то может сказать о своего рода трагедии двух великих людей, оказавшихся неуслышанными при жизни. Но насколько верной является такая оценка, если сказанное ими остаётся современным и своевременным даже спустя сто лет?
В свете же затронутой исламской составляющей в творчестве М. Ф Ахундова отметим, что тема Ислама занимала особое место и в размышлениях Л. Толстого.
Л. Толстой о единстве мировых религий
Врач семьи Толстого, писатель и переводчик Душан Маковицкий отмечает, что мыслитель уважительно относился к мусульманству и ставил его, какое оно есть, гораздо выше церковного учения. "Магомет, - говорил Л. Толстой, - постоянно приводит Евангелие. Христа не признает богом и себя не выдает за бога. У магометан нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его. Нет никаких догматов, никаких таинств. Что лучше: православие или магометанство? Для меня ясно, что магометанство лучше", и оно "мне очень помогло" (58).
Неподдельный интерес писателя к Исламу, а также его многочисленные положительные высказывания о мусульманстве подвели многих ко мнению чуть ли не о принятии им Ислама. Однако, как просматривается из записей и откровений мыслителя, при всем уважении к исламской духовности, его основной идеей было единение человечества вне зависимости от национальности и вероисповедания.
Татьяна Архангельская, долгое время исследовавшая наследие Л. Толстого и проработавшая ведущим научным сотрудником дома-музея писателя в Ясной Поляне, пишет, что писатель часто получал труды со всех концов России и из других стран, в том числе об исламе. В частности, работа А. А. Девлет-Кильдеева "Магомет как пророк" имеет дарственную надпись от 1899 г.: "Глубокоуважаемому Великому Просветителю Графу Льву Николаевичу Толстому от его почитателя мусульманина башкирца Арслан Али Султанова". В 1910 г. в Ясную Поляну регулярно поступал двухнедельный научно-литературный и общественный журнал "Мусульманин", издаваемый в Париже. В №19 этого издания был опубликован ответ Л. Толстого на прозвучавший в его адрес вопрос от татарского писателя Мирсаяфа Крымбаева: "Можно ли, придерживаясь религии Магомета, дойти до счастливой совершенной жизни?" (с выражением сомнения в жизнеспособности Ислама) (59).
В этом письме Л. Толстой фиксирует наличие единой для всех религий основы: "любовь к богу, т. е. к высшему совершенству, и к ближнему". Вместе с тем он указывает на присущие всем религиозным учениям ложные толкования, добавляемые "к основной религиозной истине" их последователями. По его словам, аналогичное "совершилось и совершается" в мусульманстве, и задачей людей является освобождение учений от всего, что скрывает его истинную сущность.
Л. Толстой подчеркивает, что желающий служить прогрессу человечества должен "не отрицать огулом" религию, а наоборот, осознав глубокие основы её постараться очистить их от "наростов". Благо в мусульманстве "мертвых внешних форм" гораздо меньше, "чем во всех других больших религиях". Непосредственно в Коране "можно найти много верного и глубокого" (60).
В понимании великого писателя "строгое магометанство со своим основным догматом единого Бога" появилось в противовес искаженному христианству, выродившемуся "в идолопоклонство и многобожие" (3).
В письме Верховному муфтию Египта Мухаммаду Абдо, которого он считал "просвещенным человеком", Л. Толстой называет его человеком "одной со мной веры". Признавая факт наличия разных вероисповеданий, писатель утверждает существование лишь одной истинной веры, которая состоит "в признании Бога и Его закона, в любви к ближнему" и осуществлении по отношении к другим желаемого для себя. Именно поэтому "все истинно религиозные принципы" являются идентичными для евреев, буддистов, христиан и мусульман. Но "чем более религии преисполняются догматов, предписаний, чудес, суеверий, тем более они разъединяют людей", порождая "недружелюбие". Идеальная же цель человечества - общее единение - достижима лишь при простоте религии и ее очищении от наслоений (61).
Проживавшему в Семипалатинске педагогу, автору несколько статей о писателе в мусульманских журналах Рахматулле Елькибаеву, которого он называет любезным братом, Л. Толстой озвучивает свое мнение о том, что истинная религия - одна, а "часть её проявляется во всех исповеданиях". Значительное же соединение этих частей в данной "истинной религии", вкупе с ее уяснением, позволит человечеству прогрессировать. В этом свете "всем любящим истину" важно стараться "отыскивать не различия в религиях и их недостатки, а их единство и достоинства". Именно это, по словам Л. Толстого, он и пытается осуществлять в отношении "всех религий", в том числе "хорошо мне известного ислама" (62).
Истины общей для всех людей религии нашего времени, пишет Л. Толстой, понятны и близки сердцу каждого. Поэтому для родителей, правителей и наставников, "вместо отживших и нелепых учений о троицах, богородицах, искуплениях, улетающих на небо буддах и Магометах, в которые они сами часто не верят", лучше внушать детям и взрослым простые, ясные истины этой единой религии. Ее метафизическая сущность заключается в наличии в человеке духа Божьего, а практическое правило - поступай по отношению к другим таким образом, как тебе хотелось бы, чтоб поступали с тобой (3).
В январе 1910 года, отвечая самарскому мулле Фатиху Муртазину, впоследствии редактору и издателю журнала "Икътисад", писатель называет мусульман "совершенно правыми" в непризнании ими "бога в трех лицах". Пророков Мухаммада и Иисуса, аналогично Будде, Конфуцию и многим другим, он считает такими же людьми, "как и все остальные". Их отличие он видит исключительно в более верном исполнении воли Всевышнего. Наряду с этим он считает "ошибочными" утверждения о том, что Коран является словом бога, переданным "через ангела Гавриила Магомеду" (63).
Несмотря на это, взгляды Л. Толстого находили поддержку и в мусульманской среде. По словам одного из биографов писателя Павла Бирюкова, индийский мусульманин Абдуллах Аль-Мамун Сухраварди, отвечая на запрос о его отношении к мыслителю, называет себя учеником Л. Толстого, так как является поборником "мира и непротивления". "Это может казаться парадоксальным, - пишет Сухраварди. - Но парадокс исчезает, если читать Коран, как читает и истолковывает Толстой Библию - в свете Правды и Разумения". Здесь П. Бирюков восклицает: "Как трогательно это единение душ между столь разнородными по внешнему облику лицами. И как утешительно, что существует между людьми эта внутренняя однородность" (64).
В письме к татарскому мусульманину Асфандияру Воинову Л. Толстой признает радостным для него "согласие" приверженцев Ислама с "главными пунктами" его учения, "выраженными в ответе Синоду". "Я очень дорожу духовным общением с магометанами", - заключает писатель.
Согласно приводящему этот текст татарскому исследователю Азату Ахунову, растущая популярность Л. Толстого среди мусульман вызывала обеспокоенность властей, и дело дискредитации писателя в глазах мусульманской общественности было поручено казанскому миссионеру Якову Коблову (65). Вскоре появилось его заключение о сложности определения, "насколько подлинна эта переписка, распространенная в Казани в литографированном виде, хотя и за подписью Льва Толстого" (66).
Уникальность Л. Толстого проявилась в том, что он пропустил религиозное учение ислама, как и христианства, через свой внутренний мир. Именно этот нюанс, насколько представляется, стал основополагающим для стыковки в его мировидении мусульманской религии с идеями "истинного христианства" - как базиса для идеального общества, объединенного общим мировоззрением. Согласимся, звучит утопично, но писатель пытался найти своим взглядам и практическое применение - как в своей собственной жизни, так и посредством советов людям, обращавшимся к нему с вопросами.
В качестве примера можно привести его переписку с православной женщиной, которая была замужем за мусульманином, чьи оба сына исповедовали православие, но хотели перейти в магометанство. Речь идёт о супруге подполковника русской армии, топографа Ибрагима Векилова (будущего генерал-майора, начальника военно-топографического отдела Генерального штаба Национальной армии Азербайджанской Демократической Республики) Елене Ефимовне Векиловой.
Но прежде, чем перейти к тексту письма и ответу мыслителя, целесообразно предоставить небольшую зарисовку о семье Векиловых.
Лев Толстой и семья Ибрагима Векилова
В 1866 г. потерявший отца 12-летний Ибрагим Векилов благодаря поддержке известного в Тифлисе богослова и просветителя Мирзы Гусейна Гаибзаде был зачислен на подготовительные курсы под личную опеку директора Мамлеева, согласившегося обучить мальчика русскому языку. По окончании средней школы Ибрагим быт направлен в Петербургское военно-топографическое училище. В 1879 г. в чине прапорщика он приступил к службе в располагавшемся в Тифлисе штабе Кавказского военного округа. Он возглавлял работу по уточнению государственной границы России с Ираном; под его руководством создавались карты ряда районов Кавказа и Крыма (67).
Однако в личной жизни ему пришлось столкнуться с большими сложностями. Несмотря на заслуги перед царской властью, ему отказали в разрешении вступить в официальный брак с полюбившейся русской по национальности девушкой - Еленой Ермоловой, дочерью мелкого чиновника. Основанием был тогдашний закон Российской империи о допустимости заключения брака только между единоверцами, что исключало женитьбу мусульманина на христианке. Выходом из ситуации было отречение от своей религии, что было неприемлемым и для Ибрагима, и для Елены, родители которой грозили ей отлучением от семьи в случае перехода в мусульманскую веру (67).
В надежде изменить ситуацию И. Векилов обращается с письмом об узаконивании брака к уже известному нам К. Победоносцеву, обер-прокурору Святейшего Синода, но в ответ ему рекомендуют даже не мечтать о женитьбе на русской: "Мы отберем у вас детей, у вас нет прав на отцовство над ними" (68).
В 1883 г. И. Векилов включен в состав русско-персидской комиссии, занимавшейся уточнением границы от Каспийского моря до Афганистан, и на следующий год он увозит Елену в Туркестан. Там у них рождаются двое сыновей, но узаконить брак они не могут вплоть до 1891 г. В этом году подполковника И. Векилова по российско-османскому соглашению командируют в Стамбул для создания топографических карт Карской области и военной карты Босфора. Здесь он обращается за помощью к болгарскому православному священнику Георгию Мисарову, не только обвенчавшему Векилова и Ермолову в церкви, но и предоставившему супружеской чете подтверждающий документ.
В 1894 г. после возвращения в Россию И. Векилов возобновил ходатайство об официальном признании их брака, подав прошение на имя царя Александра III. Государь, с учетом заслуг И. Векилова, позволил, в виде исключения, «не в пример прочим», узаконить брак. Но при этом оговаривалось, что рожденные дети должны быть крещены и воспитаны в православной вере (67).
Через 10 лет, однако, общественно-политическая ситуация в Российской империи вынудила царские власти издать указ, несколько расширивший права "лиц, принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям" (70). А в 1905 г. было принято Положение Российского Комитета министров "Об укреплении начал веротерпимости", запрещавшее преследование людей за переход из православной веры "в другое христианское исповедание или вероучение". Они признавались принадлежащими к избранному ими "вероисповеданию или вероучению" (71).
Примечательно, что, по словам тогдашнего председателя Комитета министров, будущего российского премьера Сергея Витте, при обсуждении вопросов о веротерпимости К. Победоносцев, столкнувшись с мнением митрополита Антония, идущим "вразрез с идеей о полицейско-православной церкви", которую он двадцать пять лет "культивировал в качестве обер-прокурора Святейшего Синода", перестал посещать заседания Комитета (72).
Как бы то ни было, Положение от 1905 г. реально ослабило вожжи в конфессиональной среде России, что позволило сыновьям и дочери И. Векилова поставить вопрос о принятии ими мусульманства. По словам Л. Векиловой, в семье главенствовали искренние отношения, поэтому "нравственные раздумья и сомнения детей не могли не волновать родителей". Но влияние отца, окружение мусульманских друзей и родственников, желание стать среди них «своими» склоняли чашу весов в сторону Ислама. И все трое, уже взрослые люди, как бы им и не хотелось огорчать мать, просили ее разрешить им принять мусульманство. Дедушка Ибрагим был рад этому, хотя к православию относился терпимо, а бабушка Елена была "не в силах принять какое-либо решение". Будучи воспитанной в строгих нормах христианства, она "решила переложить ответственность за решение этого вопроса на плечи Льва Николаевича Толстого", направив ему в 1909 г. письмо (69).
Обращаясь к Л. Толстому, она писала, что сыновья Векиловых (один - студент Технического института в Петербурге, второй - юнкер Алексеевского военного училища в Москве) просят ее разрешения "перейти в веру отца". Причиной их решения она обрисовала не "материальный расчет", а лишь стремление "прийти на помощь" азербайджанскому народу, "слиться" с которым им "мешает религия". Хотя в свете последних государственных указов это не возбраняется, ее, как мать, беспокоили "гонения на инородцев, которые у нас существуют". Изложив эти мысли, Елена Ефимовна попросила совета писателя (67).
В ответном письме Л. Толстой, одобрив желание сыновей Векиловых "содействовать просвещению" азербайджанцев, подчеркнул невозможность с его стороны "судить о том, насколько при этом нужен переход в магометанство". В то же время, говоря о предпочтении ими Ислама православию, в особенности по "благородным мотивам", он заявил о своем сочувствии "такому переходу". "Для меня, ставящего выше всего христианские идеалы и христианское учение в его истинном смысле, - констатирует писатель, - не может быть никакого сомнения в том, что магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного православия". Поэтому, если человек находится перед выбором, "для всякого разумного человека не может быть сомнения" в предпочтении мусульманства, признающего догмат "Единого Бога и его пророка", вместо "сложного и непонятного богословия - троицы, искупления, таинств, богородицы, святых и их изображений". Исламу стоит лишь "откинуть все неестественное, внешнее в своем вероучении", поместив в основу "религиозно-нравственное учение Магомета", чтобы естественно слиться с базовыми принципами "всех больших религий и в особенности с христианским учением" (73).
После получения этого ответа все дети Ибрагима и Елены Векиловых с благословения родителей приняли Ислам и поменяли имена: Борис стал Фарисом, Глеб - Галибом, а Татьяна - Рейхан.
Как видим, Л. Толстой пытался реализовывать собственные взгляды на практике, и это проявлялось в его внимательном отношении к письмам людей. Отвечал он практически всем, независимо от их положения в обществе, национальности или вероисповедания. Причем очень подробно, как и Елене Векиловой. Великая Личность! Глыба! Посвятившая свою жизнь человечеству. В прямом смысле слова.
Революционер духа
Наверное, для многих Лев Николаевич навсегда останется исключительно великим писателем. Но даже беглый взгляд на его жизнедеятельность свидетельствует о разносторонности этого выдающегося мыслителя, философа, социолога, историка и просто блестящего гражданина своего Отечества. Всё это лишний раз подтверждает: патриотизм, любовь к Родине, корням, земле проявляется далеко не посредством громких заявлений о свободе и независимости, а делами. В лице Л. Толстого они воплотились как посредством его прямых действий, так и благодаря литературно-художественной и публицистической стезе.
Блестящий ум, поразительная работоспособность, высочайший интеллект, кругозор, знание языков, интерес к культуре народов мира - все было пущено для того, чтобы помочь людям обрести счастье. Это показатель не просто широты души и высочайшей нравственной планки писателя, но и служения Истине. Той, что вела и ведет людей к свету и дарит надежду на будущее.
Поэтому невозможно согласиться с русским философом Николаем Бердяевым, считавшим Л. Толстого ответственным за "за революцию русскую", так как "много сделал для разрушения России". По его словам, Л. Толстой - "настоящий отравитель колодцев жизни", а его учение - "яд, разлагающий всякую творческую энергию" и "обратная сторона бунта против божественного миропорядка" (74).
Однако наш герой - скорее, революционер духа, революционер сознания. Не разрушительного, а наоборот, созидательного. Ибо путь к этому великий человек определил через религию. "Человек есть слабое, несчастное животное до тех пор, пока в душе его не горит свет Бога, - писал он. - Когда же свет этот загорается (а зажигается он только в душе, просвещенной религией), человек становится могущественнейшим существом мира. И это не может быть иначе, потому что действует тогда в нем уже не его сила, а сила Божья. Так вот что такое религия и в чем ее сущность" (3).
Как интересно высказался на этот счет известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский, Л. Толстой "искал Бога и нашёл его. Нашёл в своей душе" (75). И отсюда убеждение: писатель оказался победителем. Не только себя. Не только стандартности, обыденности и шаблонности, но и своей эпохи. Посему он - непревзойденный, а его вклад в религиозное мышление человечества - неимоверный. Неподъемный.
Как сказал М. Горький, если бы Лев Николаевич "был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно - в пресные воды рек (52). П. Бирюков же сравнивает его с зеркалом, в котором "собираются лучи умственного и нравственного развития нашего века, и как из оптического фокуса он бросает яркий свет на жаждущее этого света человечество" (76).
Мы же от себя добавим, что Л. Толстой был аналитиком человеческой души. В его стремлении к Истине единственным средством были добро и любовь. Именно поэтому он актуален для любого времени, вне зависимости от общественно-экономический формации на дворе. И в этом его уникальность!
28 августа (10 сентября по н. ст.) 1828 года родился Лев Николаевич Толстой. В этом году мир празднует 180-летие со дня его рождения. Гениальный писатель, мастер пластических словесных картин - и создатель утопического учения, которого можно поставить в один ряд с Т. Кампанеллой, Т. Мором и Н.Г. Чернышевским, еретик, оболгавший христианство. Сам Толстой свой уход из Православной Церкви объяснял духовным переворотом, случившимся с ним после постижения истинного учения Христа. Между тем духовный путь Толстого складывался вовсе не так.
Правила жизни
От Церкви и православного вероучения Толстой отошел довольно рано. Тому способствовала обстановка детства: в семь лет ребенок полностью осиротел, его воспитывала дальняя родственница Т.А. Ергольская. В «Исповеди» Толстой писал, что он был крещен и воспитан в православной вере. Однако религиозного чувства у него не развилось, и пылкой детской веры тоже не было, скорее, наоборот: «Я никогда не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко». Уже у десятилетнего мальчика это шаткое доверие было подорвано воскресной новостью гимназиста Володеньки М., который сообщил открытие, что «Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки». Это было принято «как нечто очень занимательное и весьма возможное». Духовная атмосфера не располагала к Церкви. Старшего брата Дмитрия, который страстно уверовал в Бога, учась в университете, все прозвали Ноем и подымали на смех; даже попечитель Казанского университета делал неуместные сравнения с библейскими персонажами, убеждая смущенного молодого человека потанцевать. Подобное воспитание убивало в зародыше и без того слабое религиозное чувство ребенка: «Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует».
Зато в детстве пробудился первый интерес к тайне всечеловеческого счастья, не связанного с христианством. Эту тайну, по семейному преданию, старший брат Николай будто бы написал на знаменитой зеленой палочке и закопал ее в яснополянском парке (где потом Лев Толстой завещал себя похоронить). Если люди откроют ее, то она сделает их счастливыми. Толстой в старости писал, что тогда верил в существование зеленой палочки, на которой написано то, что должно «уничтожить все зло в людях и дать им великое благо».
Личное неверие и отказ от Православия направили талантливого юношу к самостоятельным поискам истины и смысла жизни. В 1844 году Лев Толстой поступил в Казанский университет, но в 1847 году оставил занятия и вернулся в Ясную Поляну. Биограф Н.Н. Гусев связывал его уход из университета с тем, что ему приходилось постигать по требованию профессоров совсем не нужные знания, в то время как молодому человеку хотелось свободно приобретать те знания, которые его интересовали. Однако этот поступок был прямо связан с началом формирования у 18-летнего Толстого его собственного мировоззрения и с неудовлетворенностью окружающей действительностью: «Я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимает за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души», - пишет он в дневнике в марте 1847 года. И первый ключевой вывод, сделанный им в поисках правильной жизни, - решающее значение разума : «Все, что сообразно с первенствующей способностью человека - разумом, будет сообразно со всем, что существует».
Следующим постулатом, к которому пришел Толстой, стало совершенство , явившееся его ответом на вопрос об истинном смысле жизни. Этот вывод, сделанный Толстым в апреле 1847 года, останется и в его позднейшем учении: «Цель жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего». Молодой Толстой решил заниматься усовершенствованием самого себя по специально разработанной им программе. Были составлены правила, которые должны были разносторонне развить все способности: телесные, умственные, нравственные и душевные качества и особенно сильную волю. Судя по дневникам, «правила жизни» захватили Толстого целиком, но религиозные вопросы пока перед собой он не ставил. Он окончательно разуверился во всем, что слышал об этом в детстве, хотя запись в правиле «для развития воли чувственной» показывает, что толстовское отношение к Богу начало складываться: «Я не признаю любви к Богу, потому что нельзя называть одним именем чувство, которое мы имеем к себе подобным, или низшим существам, и чувство к высшему, не ограниченному ни в пространстве, ни в времени, ни в силе и непостижимому существу».
Через несколько лет Толстой пережил сокровенный религиозный опыт, который, казалось бы, должен был убедить его во многом. В июне 1851 года, находясь в действующей армии на Кавказе, он испытал очень сильное, благодатное чувство на молитве: «Мне хотелось слиться с Существом Всеобъемлющим. Я просил Его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели Оно дало мне эту блаженную минуту, то Оно простило меня… Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все - и молитву, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно, чувство, которое я испытал вчера, - это любовь к Богу. Любовь, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное». Пережитое сильное, неподвластное разуму религиозное чувство вызвало у Толстого состояние растерянности и глубокого потрясения, он ненадолго отрекается от требований ясности и разумности, да и от самого себя: «Как смел я думать, что можно знать пути Провидения… Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить Его. Благодарю Его за минуту блаженства, которая показала мне ничтожность и величие мое. Хочу молиться, но не умею; хочу постигнуть, но не смею - предаюсь в волю Твою!»
Отсюда начинается толстовское богоискательство (в «Исповеди» Толстой относит его к гораздо более позднему времени). Через год после своего религиозного переживания он находит смысл и закон жизни в добре, которое, в свою очередь, сталосмыслом духовного совершенства: «Дурно для меня то, что дурно для других. Хорошо для меня то, что хорошо для других… Цель жизни есть добро. Средство к доброй жизни есть знание добра и зла… Мы будем добры тогда, когда все силы наши постоянно будут устремлены к этой цели. Удовлетворение собственных потребностей есть добро только в той мере, в которой оно может способствовать добру ближнего». Совершение добра для других есть благо, в котором разумное постижение человеком смысла жизни соединяется с его нравственным жизненным поведением. У добра есть великий залог исправления зла в человеческой природе: «Человек, который поймет истинное добро, не будет желать другого». Эгоизм, «животная», «плотская» бездуховная жизнь есть зло. Толстой остается верным своей идее совершенства, переосмысленной по-новому: «Притом не терять ни одной минуты для познания делания добра есть совершенство». Эта мысль прослеживается в молитве Толстого, составленной им самим: «Боже, избави меня от зла, то есть избави меня от искушения творить зло, и даруй мне добро, то есть возможность творить добро. Буду ли я испытывать зло или добро? - Да будет воля Твоя!»
Однако ниспосланное чудесное переживание не привело писателя к вере, потому что он не смог охватить его разумом. Бог оставался загадкой для Толстого, который мечтал вывести понятие о Нем столь же ясно, как понятие добродетели, но пришел к выводу, что «легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем Существо, сотворившее его». В итоге он отказывается от признания существования личностного Бога, ибо это противоречит разуму и потому что это понятие не укладывалось в практически готовую систему толстовских представлений. Потом он исключит саму возможность молитвы. Мистика была для него неприемлемой.
Молодой Толстой ищет великого приложения своих сил, чувствуя, что «рожден не для того, чтобы быть таким, как все». И уже в марте 1855 года эти поиски приводят его к грандиозному утопическому замыслу, осуществлению которого он решил посвятить жизнь, - «основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Через пять лет, во время похорон любимого брата, идея обрела конкретную форму - «написать матерьялистическое Евангелие, жизнь Христа-материалиста» - форму, вполне соответствовавшую собственной мысли Толстого.
Такова суть «чистого», еще не перенесенного на христианство толстовства, сформировавшегося к середине 1850-х годов, которое будет развиваться в течение всей дальнейшей его жизни, наполняясь новым содержанием, но никогда не изменится в своей сути. В «Исповеди» нет ни слова обо всех этих исканиях и выводах. Излагая ретроспективно свою жизнь как путь к религии, Толстой во многом создает художественный миф, главная задача которого - показать путь к истине, от тьмы и зла - к свету и добру, и тем убедить читателя в истинности своего учения. Согласно этой концепции, жизнь Толстого делится на два периода. В первом, до начала 1870-х годов, он жил в обществе по его законам, и если у него и были стремления к добру, то он скрывал их от окружающих, никакой веры он не имел ни во что, кроме «абстрактного совершенства», которое скоро сменилось тщеславием, а затем верой в прогресс. Зрелище смертной казни в Париже и смерть любимого брата в 1860 году породили в Толстом «сознание недостаточности для жизни суеверия прогресса» (как мы помним, тогда его уже осенила мысль написать материалистическое Евангелие). Он постепенно убеждался, что смысл в жизни отсутствует вообще, и едва не покончил с собой. Философия и наука не дали ему ответа на вопрос: «Зачем я живу?» Тогда он обратился к «простым людям» и увидел, что они живут верой, от которой он отказался в пользу разума.
После первого этапа жизни «во зле» и пережитого кризиса в конце 1870-х - начале 1880-х годов наступает второй этап: обращение в христианство, духовный переворот и обретение истинной жизни. Периоды «старой» и «новой» жизни, утверждает Толстой, противоположны в своей сути. «Пять лет назад я поверил в учение Христа - жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, что прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось… доброе и злое переменилось местами. Все это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как понимал его прежде», - пишет он в другом программном трактате «В чем моя вера». Итак, постижение «истинного» учения Христа - суть духовного переворота Толстого, как он сам об этом пишет. Забегая чуть вперед, упомянем, что к этому времени Толстой вывел давно желанное понятие о Боге: «Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу еще? - вскрикнул во мне голос. - Так вот Он. Он - то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить - одно и то же. Бог есть жизнь».Толстой, отрицая личностного «плотского» Бога-Творца и Христа-Логоса, верил в Бога-Духа как основу «разумения жизни», как начало всего, как духовное начало в человеке. Бог Толстого - безличностный; «молиться Ему все равно что молиться солнцу или небу, и просить Его о чем-либо все равно что просить о помощи или даровании небесные светила». Но люди есть сыны этого Бога своим духовным началом. Так закончился толстовский кризис, который одновременно завершал его богоискательство.
Толстой подошел к христианству с готовыми идеями. Он, конечно, мучился и метался, пытаясь понять Церковь, но ничего, кроме подтверждения своих мыслей, в ней не искал. Пришел же он в храм вослед простому, трудящемуся, «творящему жизнь» народу. В народной вере Толстого привлекло знание смысла жизни, который он считал истинным, ибо он был «ясен и близок» его сердцу: «Задача человека в жизни - спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым». Этот истинный смысл народ черпает из своей веры, и тогда Толстой принял народную веру, то есть стал ходить в храм и усердно исполнять все «обряды», не видя в них никакого смысла и считая все это «странным»: таинства, церковные службы, двунадесятые праздники, посты, поклонение мощам и иконам - то, что символизирует веру в Бога, которой у Толстого не было. Ведь он не считал Иисуса Христа Богом.
В «Исповеди» он признался, что богословие казалось ему «рядом ненужных бессмыслиц», и оно «не лезет в здоровую голову», но тогда он будто бы решил повиноваться всему с помощью различных софистических ухищрений. Например, его старший сын Сергей вспоминал, что отец решил «принять догматику, таинства и чудеса на веру, со смирением, так как разум отдельных людей должен подчиниться разуму соборному - Церкви».
А дальше выявилось главное: не рационализм, как считают многие исследователи, а именно собственные идеи не пустили Толстого в Церковь. Он утверждал, что в Евангелии его больше всего «трогало и умиляло» то учение Христа, «в котором проповедуется любовь, смирение, уничижение, самоотвержение и возмездие добром за зло», во имя чего он, Толстой, и подчинял себя Церкви. «Подчинившись» же Церкви, Толстой заметил, что эта сторона христианства не составляет главного в учении Церкви: «Я заметил, что то, что представлялось мне важнейшим в учении Христа, не признается Церковью самым важным». Учение же Церкви о личностном Боге-Творце, Христе-Спасителе и о Его воскресении, Толстому, по его собственным словам, было «не нужно». И потому «совершенно непонятное» для него таинство евхаристии стало ему препоной. Совершение этого таинства без малейшего искреннего чувства нанесло удар по мнимой церковности Толстого: «И зная наперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз».
Потом уже, подводя под свое отрицание Церкви нравственный фундамент и упрекая Церковь в забвении Христа, Толстой писал, что оттолкнули его и одобрение Церковью гонений, казней, войн, и неприятие ею других конфессий, но главным было именно «равнодушие» к избранной им сущности христианства: «Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах, а Церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам. Правила, даваемые Церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны, а правил, основанных на христианских истинах, не было». Как видно, он уже точно знал эти «христианские истины».
«Возвещение о благе»
Толстовская критика Церкви показывает, что он совсем не понимал предмет, о котором писал. Так, например, он пришел к выводу, сделанному из изучения «строго логической богословской теории», что будто бы «после Христа верою человек освобождается от греха, то есть что человеку уже не нужно разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только в то, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, то есть совершенно хорош. По этому учению, люди должны воображать, что в них разум бессилен и что потому-то они и безгрешны, то есть не могут ошибаться. Истинно верующий должен воображать, что со времени Христа земля родит без труда, дети родятся без мук, болезней нет, смерти нет и греха, то есть ошибок, нет». Изложив эту, по словам архиепископа Иоанна (Шаховского), карикатуру на христианское учение, Толстой делает вывод, что оно - бессмыслица. «Кто верит в Бога, для того Христос не может быть Бог», - поясняет он в «Критике догматического богословия», потому что вера в Христа как в Бога совершенно искажает «истинный» смысл Его учения.
«Дорогие христианские истины» были отобраны Толстым по собственному усмотрению: только то, что являло пример разумного совершенствования в добре без веры и таинственности и даровало блаженство на земле. Это привело Толстого к учению о царствии Божием, которое должно настать в этом мире, то есть к утопии. Осуществил Толстой и свой самый сокровенный, глобальный замысел: в самостоятельном переводе Евангелий с древнегреческого языка и в сведении их «по смыслу» в один текст (что было сделано в 1879-1884 годах) предстало собственное учение Толстого.
Поэтому к чтению Евангелий Толстой подошел с двумя карандашами: синим, чтобы подчеркивать нужное, красным - вычеркивать ненужное. Ведь Евангелия создавали невежественные люди, не свободные от суеверий и наивных мечтаний; они написали много «ненужного», овеяв Иисуса Христа разными мифами, а потом Церковь, окончательно исказив истинное учение Христа, облекла его в мистику. Отсюда явилась задача выбрать из евангельских текстов то, что говорил сам Христос, и то, что Ему приписали.
Прежде всего Толстой полностью отказался от связи христианства с Ветхим Заветом, которая приводит к противоречию между верой во «внешнего, плотского творца» и ожиданием Мессии и простой и ясной христианской истиной без мистики. Толстой вычеркнул все строфы о чудесах Спасителя, Которого он считал обыкновенным человеком. Толстовское евангелие «по смыслу» кончается смертью Иисуса на кресте, когда Он, «склонив голову, предал дух». Дальнейшие евангельские строфы о погребении, воскресении, явлении апостолам и вознесении были вычеркнуты Толстым как «ненужные» (его любимое слово), противоречащие разумному пониманию. Вопрос о бессмертии Лев Толстой, судя по воспоминаниям современников, решал до конца жизни. Он был уверен в том, что человек после смерти «соединяется с Отцом» каким-либо образом, но не будет иметь личного воскресения и продолжения личностного существования в загробной жизни, так как наличие бессмертной души Толстой не признавал. «Воскресение мертвых» его истолкованием означает пробуждение духовной сущности в человеке и начало жизни истинной освобождением от жизни «плотской». Евангельскую строфу «И Я воскрешу его в последний день» Толстой переводит как «и возбужу его до последнего дня». Толстой тщательно выхолащивал Божественное содержание, сочиняя галиматью. Все держится на иносказании, все фразы обретают другое значение, везде - интерпретация текста согласно изначальным идеям, что обусловило его поразительное убожество.
Само слово «евангелие» - «благая весть» - Толстой перевел как «возвещение о благе». Христос у Толстого отличается от евангельского Христа, во-первых, тем, что Он не говорит (из Евангелия вычеркнуто), во-вторых, тем, что Он говорит (оставлено и переведено), в-третьих, тем, что Он говорит сугубо толстовские истины, вроде: «Чтобы понимать Меня, вы должны понимать то, что Отец Мой не то что отец ваш, тот, которого вы называете богом. Ваш отец есть бог плотский, а Мой Отец - дух жизни. Ваш отец бог есть бог мстительный, человекоубийца, тот, который казнит людей, а Мой Отец дает жизнь. И потому мы разного отца дети». Христос Толстого - враг Церкви и мистики. Он Сам не считает Себя Мессией и смысл Своего учения видит в том, чтобы опровергнуть иудейскую веру в Творца и дать вместо нее истину о благе. Он - обыкновенный человек, древний мудрец, понявший истину, личному примеру которого - самопожертвованию - должны последовать люди для достижения всеобщего счастья. Все, что Христос сказал о Себе как о Сыне Божием, в толстовской интерпретации относится ко всем людям без исключения, ибо, по Евангелию, каждый человек - сын Божий (Толстой позволял себе столь простые и ясные выводы). Люди же прозвали Его Христом (Помазанником Божиим) в том смысле, что Он учением о сыновности Богу «возвестил истинное благо».
Толстой превращает христианство в философскую утопию о государстве и о будущем идеальном обществе. Он рисует образ царствия Божия, долженствующего осуществиться на земле. Толстовское евангелие дает такой же утопический образ мира, какой дают описания городов «соляриев» или «утопийцев». Иисус Христос у Толстого не просто фанатик, мечтатель, мученик, идеалист, первый среди равных постигший истину. Он, подобно моровскому Утопу, первооткрыватель этого божественного закона, создатель учения о царствии Божием на земле, возвестивший людям о смысле и человеческой жизни, и человеческой истории.
«Он сказал им: Я Человек, Сын Отца жизни. Всякий человек по духу сын Отца. И если он живет, исполняя волю Отца, то он соединяется с Отцом». Каждого человека Бог оделяет своим началом, которое дает человеку разумение жизни, движет его к Богу и дарует ему «истинную, бесконечную жизнь». Божественное начало сосуществует и противоборствует в человеке со злым «животным», «плотским» началом, источником всякого зла, которое у Толстого тоже безличностно. Можно видеть здесь все тот же ранний толстовский дуализм. По мере обращения людей к истинной жизни духа и исполнения закона Божия в мире осуществится царствие Божие, которое «возвещается как блаженство».
Что же есть закон Божий? Толстой выделил в Евангелии Нагорную проповедь как сущность закона Христа и противопоставил ее Никейскому символу веры как сущности Православия. Объясняется такое выделение тем, что заповеди Нагорной проповеди выражают то новое, по сравнению с законами Моисея, что принес именно Христос. Главным был закон о непротивлении злу насилием, избавляющий человечество от его собственного зла: делай добро в ответ на зло, и зло искоренится. Всего Толстой установил в христианстве пять заповедей, исполнение которых дает осуществление царствия Божия (1. Не обижать никого и делать так, чтобы ни в ком не возбудить зла. 2. Не любезничать с женщинами; не оставлять той жены, с какой сошелся. 3. Ни в чем не клясться. 4. Не противиться злу, не судить и не судиться. 5. Не делать различия между своим отечеством и чужим, «потому что все люди - дети одного Отца»). Сущностью же учения Христа, изложенной в самой сжатой форме, Толстой считал молитву «Отче наш». Он предложил свой «перевод» молитвы. Этот «перевод» - квинтэссенция толстовских идей. Вот он.
Отче наш
- Человек - сын Бога.
Иже еси на небесех
-Бог есть бесконечное духовное Начало жизни.
Да святится имя Твое
- Да будет свято это Начало жизни.
Да приидет Царствие Твое
- Да осуществится Его власть во всех людях.
Да будет воля Твоя яко на небеси
- И да совершается воля этого бесконечного Начала как в самом себе;
И на земли
- так и во плоти.
Хлеб наш насущный даждь нам
- Жизнь временная есть пища жизни истинной.
Днесь
- Жизнь истинная - в настоящем.
И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.
- И да не скрывают от нас этой истинной жизни ошибки и заблуждения прошлого,
И не введи нас во искушение
- и да не вводят нас в обман.
Но избави нас от лукавого
- И тогда не будет зла,
Яко Твое есть Царство и Сила и Слава
- а будет Твоя власть и сила и разум.
Интересно отметить еще одну деталь. Перевод Евангелий и трактовка их смысла сделаны Толстым, этим выдающимся мастером слова, нарочито упрощенно, грубо, кощунственно, иногда с бранными выражениями, вульгарно. Толстой, разумеется, адресовался к простому читателю, но вряд ли в одной только популярности изложения дело, ведь речь идет о труде в 800 страниц, половину которого составляют церковные и толстовские комментарии к переводу и толкованиям подлинных евангельских стихов. Думается, что это тоже художественный прием: нарочитая грубость и простота выражает презрение к окружающей «ложной жизни», намеренно опрощая суть христианской истины и демонстрируя всю простоту и ясность жизни по ней в противовес сложному мистическому церковному вероучению. Ведь теоретиком мира, приписанного Христу, выступает сам Лев Толстой. И в учении о царствии Божием на земле он воплощает свою сокровенную идею о разуме и совершенстве, провозглашая «совершенство внутреннее» - духовное и «совершенство внешнее» - социальное. Следование же разуму для достижения блага - «в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом все учение Христа».
Христианство и царствие Божие на земле имеют свою противоположность: это государство и его институты - от Церкви, судов, армии, полиции, собственности, государственных границ, богатства до ненужного искусства. Все это в толстовском евангелии прямо запрещает Христос. Как и такие понятия, как патриотизм и отечество: строфы «любите врагов ваших» Толстой перевел как «врагов вашего отечества», призывая любить их, не воевать с ними и отдавать им то, за чем они пришли.
Царствие Божие наступит на Земле как следствие личного подвига людей, избравших истинную жизнь и принявших религию в качестве «руководства к действию», и достигнется путем совершенствования в добре, исполнения пяти заповедей, самоотречения, самопожертвования по примеру Иисуса Христа, учившего «отдавать свою плотскую жизнь как выкуп за жизнь духа» и умершего за истину, открытую людям. Внутреннее совершенство есть осуществление духовного начала в человеке, то есть «слияние божественной сущности, находящейся в душе каждого человека, с волей Бога». Идеал этого бесконечного совершенства указан людям в «бесконечном совершенствовании Отца Небесного, к Которому свойственно произвольно стремиться всякому человеку».
По мере исполнения этого идеала в человеческих душах будет осуществляться и внешнее совершенство: царствие Божие будет воплощаться на земле в адекватном, справедливом социальном строе, который неминуемо сменит ложное государство и «противоестественную» урбанистическую цивилизацию. «Исполнение учения - только в движении по указанному пути, в приближении к совершенству внутреннему - подражанию Христу и внешнему - установлению царствия Божия». У Толстого такой социальный идеал - крестьянские земледельческие общины, живущие на полном самообеспечении личным разнообразным, равномерно чередующимся трудом.
Люди должны мирно саботировать государство, отказаться от любого участия в его структурах, покорно терпя все лишения и гонения; покидать города и оседать на землю общинами, возвращаясь к самому истинному, справедливому и радостному труду. Человека, состоявшегося в истинной жизни, после смерти ждет неведомое «слияние с Отцом», а погибшего, не пробудившегося - уничтожение.
Переведенное и сведенное «по смыслу» в единый текст Евангелие стало декларацией идей самого Толстого. Всякая полемика и критика не имела смысла, потому что объективный перевод в задачу не входил. Православные мыслители указывали на его недобросовестность. Святой Иоанн Кронштадтский отметил: «Берется изречение Спасителя и придается ему желательный для автора смысл и значение, без должного соотношения с другими местами Божественного откровения, с другими изречениями Спасителя». Отец Георгий Флоровский усмотрел, что Толстой сверяет Евангелие со своим личным воззрением. Толстой не просто толковал христианские истины по-своему. Он создал собственное стройное учение, изложил его в своем евангелии как в художественном произведении, цитировал во множестве других своих работ. То, что составило манифест толстовства, чем зачитывалась взахлеб русская интеллигенция: о жизни во лжи, мученическом пути к истине, духовном перевороте, об обретении веры, искреннем принятии Христа в сердце и постижении Его истинного учения - все это возвеличивало Толстого, осеняло его славой пророка и заставляло серьезно относиться к его проповеди.
Реакция общества была феноменальной. Множество поклонников называли Толстого «кричащей совестью человечества» и поздравляли с отлучением от Церкви, видя в нем страдальца за Христа. Мережковский объяснил, что поддержал Толстого за проповедь христианства в жизни и жизнью: «Если вы отлучили от Церкви Л. Толстого, то отлучите и нас всех, потому что мы с ним, а мы с ним потому, что верим, что с ним Христос». Но у Толстого и толстовства было и много противников. Одни называли его гением убожества, другие - яснополянским палачом, обвиняя Толстого в моральном душегубстве, потому что он лишал человека веры в спасение и вечную жизнь. Лучше всех о Толстом и толстовстве сказал И. Концевич, изучавший истоки толстовской «душевной катастрофы»: «Чувство превосходства над всеми и всем - вот та внутренняя тайная сила, которая руководит ходом всей его жизни. Не свободен в поисках истины и разум; подчиняясь главной страсти, Толстой является ее рабом, ее жертвой. Чувство собственного превосходства заставляет Толстого с молодых лет стремиться стать учителем человечества. С этой целью он задумывает создание новой, высшей, превосходнейшей религии, долженствующей осчастливить человечество. Так Евангелие приносится в жертву этой страсти. Молоху, царящему в сердце Толстого».
"Мы так привыкли к этой религиозной лжи, которая окружает нас, что не замечаем всего того ужаса, глупости и жестокости, которыми переполнено учение церкви; мы не замечаем, но дети замечают, и души их неисправимо уродуются этим учением. Ведь стоит только ясно понять то, что мы делаем, обучая детей так называемому закону божию, для того, чтобы ужаснуться на страшное преступление, совершаемое таким обучением. Чистый, невинный, не обманутый еще и еще не обманывающий ребенок приходит к вам, к человеку, пожившему и обладающему или могущему обладать всем знанием, доступным в наше время человечеству, и спрашивает о тех основах, которыми должен человек руководиться в этой жизни. И что же мы отвечаем ему? Часто даже не отвечаем, а предваряем его вопросы так, чтобы у него уже был готов внушенный ответ, когда возникнет его вопрос.
Мы отвечаем ему на эти вопросы грубой, несвязной, часто просто глупой и, главное, жестокой еврейской легендой, которую мы передаем ему или в подлиннике, или, еще хуже, своими словами. Мы рассказываем ему, внушая ему, что это святая истина, то, что, мы знаем, не могло быть и что не
имеет для нас никакого смысла, что 6000 лет тому назад какое-то странное, дикое существо, которое мы называем богом, вздумало сотворить мир, сотворило его и человека, и что человек согрешил, злой бог наказал его и всех нас за это, потом выкупил у самого себя смертью своего сына, и что наше главное дело состоит в том, чтобы умилостивить этого бога и
избавиться от тех страданий, на которые он обрек нас.
Нам кажется, что это ничего и даже полезно ребенку, и мы с удовольствием слушаем, как он повторяет все эти ужасы, не соображая того страшного переворота, незаметного нам, потому что он духовный, который при этом совершается в душе ребенка. Мы думаем, что душа ребенка — чистая доска, на которой можно написать все, что хочешь. Но это неправда, у ребенка есть смутное представление о том, что есть то начало всего, та причина его существования, та сила, во власти которой он находится, и он имеет то самое высокое, неопределенное и невыразимое словами, но сознаваемое всем существом представление об этом начале, которое свойственно разумным
людям. И вдруг вместо этого ему говорят, что начало это есть не что иное, как какое-то личное самодурное и страшно злое существо — еврейский бог. У ребенка есть смутное и верное представление о цели этой жизни, которую он видит в счастии, достигаемом любовным общением людей. Вместо этого ему говорят, что общая цель жизни есть прихоть самодурного бога и
что личная цель каждого человека — это избавление себя от заслуженных кем-то вечных наказаний, мучений, которые этот бог наложил на всех людей. У всякого ребенка есть и сознание того, что обязанности человека очень сложны и лежат в области нравственной.
Ему говорят вместо этого, что обязанности его лежат преимущественно в слепой вере, в молитвах —
произнесении известных слов в известное время, в глотании окрошки из вина и хлеба, которая должна представлять кровь и тело бога. Не говоря уже об иконах, чудесах, безнравственных рассказах Библии, передаваемых как образцы поступков, так же как и об евангельских чудесах и обо всем безнравственном значении, которое придано евангельской истории. Ведь это
все равно, как если бы кто-нибудь составил из цикла русских былин с Добрыней, Дюком и др. с прибавлением к ним Еруслана Лазаревича цельное учение и преподавал бы его детям как разумную историю. Нам кажется, что это неважно, а между тем то преподавание так называемого закона божия детям, которое совершается среди нас, есть самое ужасное преступление, которое можно только представить себе. Истязание, убийство, изнасилование детей ничто в сравнении с этим преступлением.
Правительству, правящим, властвующим классам нужен этот обман, с ним неразрывно связана их власть, и потому правящие классы всегда стоят за то, чтобы этот обман производился над детьми и поддерживался бы усиленной гипнотизацией над взрослыми; людям же, желающим не поддержания ложного общественного устройства, а, напротив, изменения его, и, главное, желающим блага тем детям, с которыми они входят в общение, нужно всеми силами стараться избавить детей от этого ужасного обмана. И потому совершенное равнодушие детей к религиозным вопросам и отрицание всяких религиозных форм без всякой замены каким-либо положительным религиозным учением все-таки несравненно лучше еврейско-церковного обучения, хотя бы
в самых усовершенствованных формах. Мне кажется, что для всякого человека, понявшего все значение передачи ложного учения за священную истину, не может быть и вопроса о том, что ему делать, хотя бы он и не имел никаких положительных религиозных убеждений, которые он бы мог передать ребенку.
Если я знаю, что обман — обман, то, ни при каких условиях, я не могу говорить ребенку, наивно, доверчиво спрашивающему меня, что известный мне обман есть священная истина. Было бы лучше, если бы я мог ответить правдиво на все те вопросы, на которые так лживо отвечает церковь, но если я и не могу этого, я все-таки не должен выдавать заведомую ложь за истину, несомненно зная, что от того, что я буду держаться истины, ничего кроме хорошего произойти не может. Да, кроме того, несправедливо то, чтобы человек не имел бы чего сказать ребенку, как положительную религиозную истину, которую он исповедует.
Всякий искренний человек знает то хорошее, во имя чего он живет. Пускай он скажет это ребенку или пусть покажет это ему, и он сделает добро и наверное не повредит ребенку."
Л.Н.Толстой. Собр. соч. в 22 т. Т.19. Письма. 362. А. И. Дворянскому. 1899
Новости Партнеров
101 год назад, 29 ноября 1910 года, на станции Астапово Тамбовской губернии скончался .
Взгляды Льва Толстого - именно те, которые послужили причиной известного решения синода - всегда пользовались (и пользуются) определенной популярностью. Это связано не только с его бесспорной литературной гениальностью, но и с тем, что беда Льва Толстого подобна беде очень многих людей, взирающих на Церковь.
Толстой видит обрядность, иерархию, книги св. Отцов, богословие; при этом он совершенно не видит Христа. Без Христа все, что он видит в Церкви, рассыпается, кажется набором раздражающих нелепостей. Так человек, зашедший на свадьбу, но не понимающий смысла происходящего, может ворчать на нелепое платье молодой женщины, неудобный костюм мужчины, бессмысленный обряд с обменом кольцами и дурацкие крики “горько”.
Церковь собирается вокруг Христа, воскресшего и живого во веки веков, и без Него все остальное бессмысленно. Беда Льва Толстого именно в том, что воскресшего Христа он не видит - он видит только давно умершего древнего учителя. Как писал он сам:
“Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что Он во мне и я в Нем. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством” (Ответ Льва Николаевича Толстого на постановление Синода).
Спор Толстого с Церковью – это спор о именно Христе. Кто такой Иисус Христос? Живший когда-то, в глубокой древности, учитель, такой же мертвый, как и все остальные древние учителя, или Тот, Кто невидимо, но абсолютно реально пребывает с верующими в Него? Можно ли взывать к Нему в молитве или это “величайшее кощунство”? Может ли Он простить грехи, или само прощение есть “вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение перед согрешением” ? Есть ли среди нас Христос, милосердный и сострадающий, Тот, Кто утешает нас во всякой скорби, и встретит нас за порогом смерти? Или все что есть – это только “учение”?
 Евангелие, хранимое и возвещаемое Церковью, говорит о том, что
Сам Бог облекся в плоть, был распят и погребен за нас, неблагодарных и злонравных. Знаменитые слова “ ” Апостол Иоанн произносит именно говоря о Боге, который стал человеком и предал Себя на муку и смерть ради нашего спасения.
Евангелие, хранимое и возвещаемое Церковью, говорит о том, что
Сам Бог облекся в плоть, был распят и погребен за нас, неблагодарных и злонравных. Знаменитые слова “ ” Апостол Иоанн произносит именно говоря о Боге, который стал человеком и предал Себя на муку и смерть ради нашего спасения.
“Евангелие Толстого”, напротив, говорит о хорошем, но несколько мечтательном и безответственном человеке, который говорил нравственные прописи и которого за это убили. Каким образом насильственная смерть еще одного хорошего человека может свидетельствовать о Божией любви – непонятно. Зато понятно, что с точки зрения Толстого у нас нет Спасителя, возлюбившего нас и предавшего Себя за нас:
“То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо” (Лев Толстой. Ответ на определение Синода от 20-22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма).
Этот выбор – мертвый учитель или живой Спаситель – и встает перед нами, когда мы выбираем между учением Толстого и верой Церкви.
Но важно отметить и еще одну печальную вещь – люди, которые упрекают Церковь в том, что она отошла от Евангелия, в то время как Толстой понимал его прямо и буквально, очевидно, не читали ни Евангелия, ни Толстого. Как только мы откроем “Евангелие, изложенное Львом Толстым”, и сопоставим его с просто Евангелием, мы обнаружим, что Толстой грубо кромсает Евангельский текст, выкидывая из слов Христа то, что не согласно с его взглядами, и иногда просто приписывая Христу свои собственные слова – нередко прямо противоположные тому, что говорит Евангельский Христос.
Если бы такому обращению подвергся любой другой текст, хотя бы текст самого Льва Николаевича, это было бы сочтено крайне непорядочным и, совершенно очевидно, не было бы принято его почитателями. Едва ли следует удивляться тому, что Церковь не может принять такого произвольного редактирования слов Христа.
Если же мы обратимся к подлинному учению Христа, мы найдем там Его слова: “Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” (Матф.16:18). Подлинное учение Христа - и не только учение - Его самого - мы можем найти только в созданной Им Церкви.